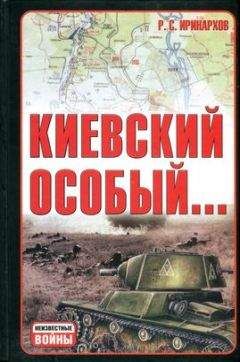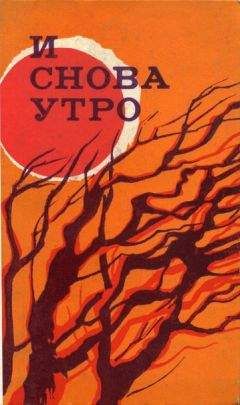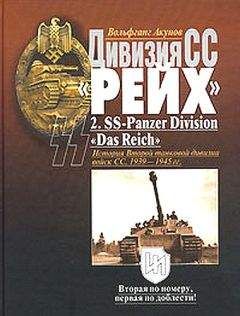Анатолий Кудравец - Сочинение на вольную тему
Игнат Степанович долго искал источник этих звуков вверху, пока не догадался опустить глаза вниз, и тогда увидел, что это звенел, умирая, снег. Зимой здесь намело огромный сугроб, снег растаял, остался лишь тонкий и прозрачный, как оконное стекло, ледяной козырек. Он отпотел на пригреве, с ледяной коры срывались капли воды и звенели, словно ожившие в улье пчелы. Тонкий, пронзительный пчелиный голос. Сжалось, защемило сердце.
С приходом весны Игнат Степанович ощущал себя птицей, которой надо лететь в далекий край. Она не знает, куда и зачем лететь, но потребность полета живет в ней, как сама жизнь. Он был человек — не птица, однако это ощущение не покидало его.
Игнат Степанович бросил хитроватый взгляд на Валеру, спросил:
— Вот ты хочешь знать, как бы я поступил, если б теперь попросили сделать то же самое с костёлком… А я сперва хочу узнать это у тебя. Если б пришли и сказали такое тебе, что бы ты делал?
— Я? — Валера подумал. — Конечно, не полез бы…
— А интересно знать: почему?
— Ну, хотя бы потому, что под мельницу можно было пустить какую-нибудь из панских построек или поставить новый сруб… Да и… вы же говорите: редкой руки мастера его строили… Пускай бы стоял…
— Вопщетки, голова у тебя правильно варит… А вот ты — комсомолец, и тебе надо с богом что-то делать, ну с той самой религией… Как ты тут будешь?
— Ну, разъяснять людям надо… Лекции читать, кино показывать. Человек должен сам к этому прийти…
— Сам-то сам, конечно. Это теперь, когда с богом все на «ты», можно и самому, а тогда… Я, вопщетки, и теперь, если б пришел Вержбалович и сказал, полез бы… Очень было интересно все это… посмотреть, какая из него мельница выйдет… А мельницу, какую мельницу отгрохали! Пять сельсоветов кормили. А Вержбалович и тогда… не всем по нутру пришелся. Особенно выступали против Мостовские. Их было двое братьев и шурин третий. Они и рассчитывали, что кто-нибудь из них сядет на это место. Был Габриель, так почему бы и им которому не покомандовать. Миша был самый младший, а Стась и шурин Василь — уже в самых годах и по семь классов имели. Классы классами, охота охотой, да надо еще, чтоб люди надумали позвать. Сидели они на хуторе, туда под Бродец, и слазить с него не хотели. И в колхозе, и на хуторе: тут тебе и лес, и луг, и поле. И скотина — где хочет, и сам — где хочешь. Оно и слепому видно: куда ни пойдешь — всюду свое, и свое — свое, и колхозное — свое.
Сход проводили на выгоне перед подворьем Казановича. Подворье было крепкое: конюшня, овчарня, два амбара, гумна и дом комнат на двенадцать, парадный подъезд на круглых еловых столбах, широкие двери, закругленные окна… На фронтоне вывели: «Колхоз «Чырвоны прамень»[1]. Хорошее название придумали. Всем нравилось. В панском доме и разместилась контора колхоза и детский сад. Да две комнаты занял Вержбалович: приехал он не один — с женкой и тремя детьми. Женка снова тяжелая была, рожать собиралась, а как без своей хаты? Кругом смелый человек был. Позднее уже, когда мы сдружились, однажды я и спрашиваю его: «Как это ты так — сразу с семьей? А вдруг бы не выбрали председателем?» А оно и такое могло быть. «Ну и что, говорит, попросился бы в колхоз, неужто земли пожалели б, не приняли?»
Принять-то приняли бы, да и из района прибыл человек, сход проводить, все-таки подмога, но вот так — связать все в узел, детей, бабу на подводу — и, как цыган, в белый свет, — тут риск нужон. Правда, и женка его, Люба, легка была на ногу. Не успели сгрузить узлы с подводы, она и пошла командовать: тут это повесить, тут то поставить, это взять, то отдать. Идет, живот выставила вперед, прет, как танк.
Мостовские крик большой подняли на сходе, аж не по себе было слушать. «Разве у нас своих нету, обязательно чилых надо?!» — «А кто тут чилый? — поинтересовался тогда Мацак. — Все мы чилые, грыземся, как собаки, а порядка нету. Много у нас развелось таких: что урвал — то и тянет». Он вроде бы и не говорил впрямую о Мостовских, а глотку им заткнул.
Вержбалович сразу дисциплину взял строгую и о том еще на сходе предупредил: «Я вам по-большевистски говорю, без дисциплины добра не будет. Так давайте вместе его шукать. А что, говорите, чилый, так глядите сами. Я большинство из вас знаю, да и вы меня, видимо, немного знаете.
Оно и верно: многие его знали. Знали, что учился в Минске на коммунистических курсах. Правда, тогда никому в голову не пришло спросить, почему он не окончил их и вернулся на работу. А по правде, так довелось ему утекать с тех курсов. Знали бы это Мостовские — не преминули бы спросить, гвалт поднять.
Он рассказал мне об этом года два спустя. «Чырвоны прамень» в то время уже крепко держался в районе, и на трудодень начали давать — и хлеб, и бульбу, и даже яблоки. Вержбаловича приняли и те, кто и не хотел принять. Увидели: человек и говорит, и делает, а не в свой хайлук тянет. Видно, и на курсах он был такой же горячий. Любил всюду проверить, крепко ли завинчено, а нет — то и перевинтить по-своему.
Говорит, собрались как-то в свободный вечер в комнатенке, и немного было, человек восемь. Стихи, байки, а потом и на религию перешли. Тогда этим все кончалось. После кулака да мирового империализма религия была первейший враг. Стали вспоминать, как когда-то шло богослужение, какие молитвы читались, псалмы. Голос у Хведора густой был, в одном конце поселка гаркнет — в другом на постели не улежишь. Возьми он да затяни вовсю: «Суди меня, боже, и дело мое ты веди против народа без сердца! От людей криводушных и неправедных вызволи ты меня! Ибо ты — бог, заступник мой. Почему же ты отступился от меня?»
И другие псалмы и молитвы: память его много держала. Посмеялись, пошутили, а назавтра вызывает Хведора к себе начальник курсов и зачитывает письмо, в котором черным по белому сказано: курсант Вержбалович мало что сам в бога верует, так еще и других смущает в эту веру. И много всякого-разного было наклепано в той бумаге… Начальник курсов человек был честный, из старых большевиков, он и посоветовал несчастному безбожнику: «Эта бумага лежит у меня на столе, и пусть лежит, а я тебя со вчерашнего дня не видел. Ты захворал и уехал куда-то в село… А с песнями разберись, где какие петь. И с религией. И кому что петь. Понял?» Чего уж тут было не понять… Вот каким макаром он вернулся назад в свой район, а оттуда — к нам…
Помолчали. И снова первым подал голос Игнат Степанович:
— Я должен сказать тебе так: на земле каждый должен топтать свою стежку сам. Однако важно не сбиться, знать, куда идти. Это как ночью в лесу…
А председатель он был на редкость. Как только всюду и успевал… Еще и птица не подаст голоса, а он уже на ногах, марафонит по бригадам. Или в поле, или на конюшне. Тут и веселое, и серьезное. Сам он заметил или кто подсказал: кто-то бураки крадет с колхозного поля. И хитро крадет: бурак возьмет, а ботву обрежет и назад в землю воткнет. Она и сидит, пока желтеть не начнет. И неизвестно, когда это злодейство делается: днем — видно, ночью — сторож ходит. Бураки росли по одну сторону дороги, а по другую был овес. Хведор разглядел в овсе чуть приметную стежку и залег в борозде. Три ночи пролежал, а на четвертую дождался. Человек так привык ходить этой дорогой, что не смотрел под ноги и зацепился за самого председателя. И покатился: сам в одну сторону, мешок с бураками в другую. Хотел было бежать, да куда ты убежишь. Столько караулить и упустить?..
Опять небольшая пауза, опять раздумье.
— Или было еще: вышли косить. Трава поспела, погода так и млеет — тут в могиле не улежишь, не то что дома по закуткам отираться. Взялись дружно, как один. И надо ж было придумать: всем, кто на ударной косьбе с косой ходит, писать по дню двадцать пять. Оно вроде и правильно, если брать во внимание ударную работу. Но одно — станет на прокос Юзик Горавский — гектар на ровном свалит, или тот же Мацак, или, вопщетки, я — меньшей косы, как девятка, и в руки неловко было брать. А тот же Миколка Юрчонок, когда и старается, больше пятидесяти соток не собьет, а ежели шаляй-валяй, так и сорок. Или Стась Мостовский: то закурить, то воды попить… И всем — день двадцать пять. Косим день, другой, а на третий, к обеду, жарко было, я и шумнул: «Бросай, хлопцы, косы, айда в тенек: все равно день двадцать пять». Так и сделали. Перекурили самое пекло под кустами, а немного спала духота — опять взялись за косы. Дело было под выходной. Как раз кино привезли, собрались все в том же Казановичевом доме.
Поглядели кино, начали вставать, по домам расходиться, а Вержбалович и говорит: «Погодите, не все еще показали». И правда, снова засветилась простыня на стене, а на ней человек намалеван: нос шкворнем и в зубах папироса, как оглобля. Вроде и не похож на меня, а слова мои: «Бросай, хлопцы, косы, айда в тенек: все равно день двадцать пять». Вопщетки, тогда я еще трубки не знал… Все хохочут, а мне какой смех, хоть после и вышло по-моему: бригадир стал замерять и, кто сколько скосит, столько и писал. А то взяли моду: маши не маши — день двадцать пять… — Игнат Степанович хмыкнул, развел руками. Было видно: это воспоминание и сейчас глубоко сидит в нем.