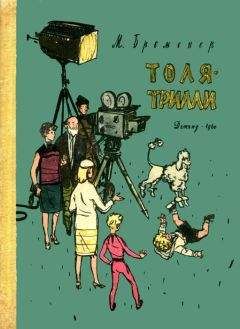Макс Бременер - Присутствие духа
Голова «бабы» с желтыми нитяными волосами и четко нарисованным на чулке лицом выглядела сейчас совершенно так, как пять с лишком лет назад в центре стола, за которым они сидели поздним вечером…
А Маша глядела на свою куклу, радуясь, что удалось захватить ее. Но через минуту, когда она затворила за собой калитку и тут же увидела бабушку, спешащую от дома к калитке, глядящую и машущую ей вслед так (откуда-то она знала это), как глядят и машут в последний раз, она ощутила, что наступил конец. (Бывало, бабушка читала ей разные истории, а потом говорила вдруг: «Конец», и Маша не понимала — что это, почему?.. Ведь что-то же должно быть и дальше?..) И вот теперь всему, что всегда было, наступил конец, а дальше ждало совсем другое и неизвестно что, — она не поняла этого, но почувствовала боль и страх.
Маша оглянулась, и бабушка крикнула ей (они еще недалеко ушли) своим домашним голосом, каким не говорила с ней при людях:
— Что, Махмуд, такой надутый? (Так и мама спрашивала, бывало, и щекотала ее под подбородком душистым увертливым пальцем.)
Маша захотела ответить бабушке тоже громко, но не смогла и только помахала, поднявшись на цыпочки, изо всех сил тяня вверх руку…
Добрый, хороший, чужой человек наклонился к ней и спросил:
— Хочешь, Маша, на руки?
— Нет, — ответила она тихонько и еще помотала головой для ясности и пошла с ним дальше.
На них посматривали встречные. Наверно, они не были похожи на курортников, которые частенько расхаживали с вещами по городу, приискивая квартиру или крышу для первого ночлега, и встречные вскользь соображали, кто же они…
А через неделю множество таких же, как они, людей шагало через город на восток. Жилища их были разбиты немецкими бомбами, и родные у многих из них уже погибли в первых пожарах Отечественной войны.
Гнедин уложил Машу и, когда она, чуть слышно причмокивая, ровно задышала, сам опустился на заранее расставленную раскладушку, произнеся про себя: «Спит…»
В сущности, он мог бы не ложиться в такой ранний еще час, но накануне его испугал Машин крик. Он сидел во дворике с Екатериной Матвеевной и Волей и, прибежав на крик, застал ее сидящей на кровати с открытыми глазами, но еще не проснувшейся.
— Что нам приснилось, что нам приснилось, что там такое привиделось, что за сон дурной?.. — спрашивала, не ожидая ответа, Екатерина Матвеевна и легонько тормошила девочку, как бы стряхивая с нее оцепенение и в то же время убаюкивая ее. Она овевала концом шали Машино лицо, бормотала-напевала тише и тише какую-то невнятицу, а потом смолкла, распрямилась, пошла к двери, и тут Маша сказала:
— Дядя Женя, мне приснилось, обижают маму…
— Маму? — переспросил он и подсел к ней на край матраца.
— Ага, — ответила она еле слышно, сдавленно, силясь не заплакать.
И только теперь Гнедин почувствовал, какие они с Машей близкие люди… И раньше, конечно, он жалел ее, и, что такое долг, он знал и понимал, да вообще дети — все, каких встречал он, — были ему милы. А тут… Им снятся одни и те же сны. От одного они просыпаются и садятся среди ночи на постели… Он знал дружбу с товарищами по борьбе, с товарищами по несчастью, но чувства, соединившего его сейчас с этой девочкой, он еще не испытывал…
— Ты спи спокойно, я буду здесь, — сказал он. — Начнет тебе дурной сон сниться, я его прогоню сразу. Спи… Здесь хорошо, прохладно.
Вот почему на следующий вечер Гнедин не отлучался из дому.
Но, в сущности, ему и не хотелось никуда идти. Его не тянуло на вечерние улицы летнего города, обретшего за последние годы черты южного курорта. Евгений Осипович был здесь на ученьях лет шесть назад. В своем теперешнем неопределенном положении ему не хотелось встречать людей, служивших когда-то под его командованием (он предполагал, что может тут кого-нибудь встретить), и объяснять им, как обстоят его дела, тем более что ему самому это не было ясно.
Он ждал ответа, а может быть, вызова от отдела кадров Наркомата Обороны. Две недели назад он был в наркомате, и ему обещали решить вопрос о его назначении, но, видно, еще не решили или ответ не успел до него дойти.
Его не тянуло на вечерние улицы, по которым сквозь тополиную метель шли гуляющие. Он твердо знал, что близких своих друзей среди них не встретит… Гнедин сторожил Машин сон и жалел только, что под рукой нет интересной книги.
Ему вспомнился домашний кабинет в московской квартире, книжные полки от потолка до пола… На полках стояло множество книг — таких, которые, предполагалось, должны были его интересовать, и таких, которые ему просто полагалось знать и любить, — большую часть их он так и не успел прочесть… Он жалел об этом, и сейчас — с внезапной, особенной остротой. Отчетливее, чем когда-либо, подумалось Евгению Осиповичу: то, что говорило, может быть, людям о его склонностях, привязанностях, вкусах, было в его жизни всего лишь бутафорией.
Гнедин осторожно поднялся с раскладушки, нащупал на стене штепсель, включил настольную лампу с голым остовом от абажура. Заслонив от света Машу, он смастерил колпак из вчерашней газеты. Газета была прочитана от начала до конца: статья о подготовке к юбилею Лермонтова, подвал о новых достижениях стахановцев в промышленности и на транспорте, германская военная сводка о войне с Англией в воздухе и на море, слово в слово (Берлин, 19 июня. ТАСС), под ней сообщение из Лондона о потерях, понесенных немцами, ниже отчет о матче двух футбольных команд, не очень известных, республиканских, с незнакомыми фамилиями игроков… Но и это он прочитал внимательно, и все другое, вплоть до сводной афиши, в которой сообщалось, какие спектакли и фильмы шли вчера вечером в театрах и кино Киева…
В круге света, который отбрасывала теперь лампа, Eвгений Осипович обнаружил сверток с фотографиями, взятыми у Валерии Павловны. Может быть, не стоило к ним прикасаться, может быть, следовало просто хранить их?..
Бережно развернул Гнедин старые фотографии и мимолетно подивился их добротности: картон, на который они были наклеены, не погнулся, изображение ничуть не выцвело, вытисненная внизу золотом надпись не потускнела. «Солидная фирма», — подумал он о старом фотографе, разглядывая лица отца и матери Валерии Павловны — Люсиных деда и бабки.
Кто они?.. Кажется, это были интеллигенты — не революционеры, но, что ли, сочувствовавшие… Больше он ничего не мог о них вспомнить. А когда-то он знал, что они переписывались с Короленко, мечтали о замене монархии парламентом, о гласности, надеялись, что общественное мнение в России будет с годами играть все большую роль… В свое время, узнав о них все это, он подумал годными к случаю словами: «интеллигентские обыватели»… Сейчас он не вспомнил ни того, что когда-то знал, ни того, что когда-то подумал, а нашел неожиданно, что у них хорошие лица.
Пристально, не от нечего делать, с живым и острым интересом вглядывался Евгений Осипович в черты этих людей. Он не встречался с ними в годы, когда Люся, случалось, недолго у них гостила. Его к ним не влекло. Почему-то само собой разумелось, что ему будет не по себе от их церемонности, от степенной, медленной беседы о пустяках… А сейчас он смотрел на них в упор, смотрел и делал какое-то усилие, словно теперь, когда их не было в живых, ему необходимо было разгадать их.
Гнедин листал страницы альбома и вдруг рядом с лицами стариков увидел знакомое лицо. Да, этот человек однажды был у них в гостях, помнится, в Москве. Кажется, это был Люсин дядя, а может, и не дядя… А кто?.. «Никто уже и никогда не сумеет этого уточнить, — мимоходом подумалось Гнедину, — некому это сделать».
И тотчас Евгений Осипович вспомнил, как, придя однажды вечером домой, застал жену и этого ее родственника, не видевшихся несколько лет, за разговором о Тютчеве. Как будто они спорили — впрочем, довольно мирно, — но спор этот был ему непонятен и даже вызывал досаду, может быть, потому, что он не слышал его начала. Ему казалось, что они могли бы переменить тему, но родич жены, едва только Люся представила их друг другу, сразу спросил:
— Не знаю вот, как теперь к Тютчеву принято относиться? — и ожидательно поглядел на Гнедина, как на само собой должного знать, что принято и что нет.
Но и Гнедин не знал этого, да, признаться, и мало это его заботило. Он пожал плечами:
— Относитесь, как хочется… Ну, словом, как относитесь, так и относитесь. — И остался доволен простотою своего ответа.
— Стало быть, вы мне позволяете любить Тютчева? — спросил Люсин родич живо, точно ловил Евгения Осиповича на слове и собирался теперь сослаться на его позволение.
— Я в литературе небольшой знаток, — сказал Евгений Осипович с долей сожаления, но без всякой неловкости. Теперь, он полагал, должен был начаться другой разговор. Он дал ведь понять, что не желал бы продолжать этот.
— А в каких сферах вы сведущи? — спросил женин родич, точно не знал, с кем говорит.