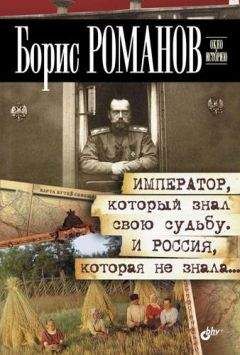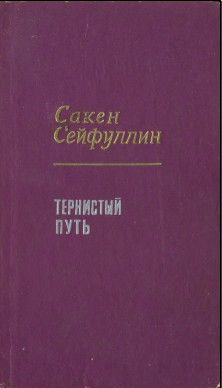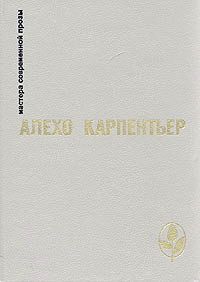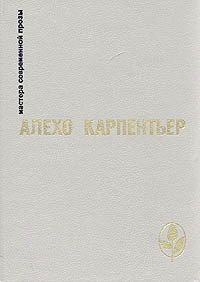Александр Лебеденко - Тяжелый дивизион
— А мы вот закиснем здесь зимой, пойдут наши провинциальные будни, гимназия, снег. Вот Татьяна моя кончать собирается. Говорят, даже раньше срока их выпустят. Не дают доучиться как следует.
По тону Марии Антоновны не было видно, чтобы провинциальные будни душили ее своей скукой и пустотой. В браке с маленьким, уже давно седым, сморщенным и усталым акцизным чиновником, делившим весь свой день между службой и собиранием коллекций бабочек и насекомых, она родила троих детей, рослых, здоровых, красивых, гордилась ими и дрожала над ними, как наседка.
Она старалась казаться современной, твердила всем, что для детей она не только мать, но и подруга, однако вожжи домашнего быта и хозяйства держала крепко в пухлых короткопалых руках. Отец вечно был в разъездах по округу, для детей был гостем, и весь дом считался только с хозяйкой.
Брат Татьяны, гимназист-шестиклассник Левушка, пришел с товарищем, подошли соседки, подруги Елены, и в саду, заросшем орехами, яблонями, шелковицами, на усыпанных гравием дорожках поднялась беготня. Брат Андрея, второклассник Сергей, робко, по-мальчишески влюбленный в Елену, которая была на два года старше его, следил издали за каждым ее шагом. Татьяна постаралась улучить минуту, когда Елена была занята Сергеем, и увлекла Андрея в беседку. Здесь в темноте она порывисто и вместе с тем робко отвечала на ласки Андрея и сейчас же шептала:
— Нельзя долго. Увидят, неудобно. Потом еще!
И она спешила к скамейкам под грушей, где сидела молодежь. Белое платье неслось впереди Андрея в густых сумерках сада, подобно большой белой птице над заснувшим прудом.
Когда Андрей свернул в боковую аллею, здесь внезапно налетела на него Елена. Детскими худыми руками она обняла Андрея, и тонкие, острые губы стали настойчиво целовать его лицо, глаза, щеки. В ее ласках не было стыдливости сестры. Зеленовато-серые глаза светились настойчиво, и она шептала:
— Ну, целуй меня, целуй. Я не хочу, чтобы ты целовал Татьяну…
Андрей держал в объятиях худенькое тело девушки, не будившее в нем никаких желаний. Он как-то посадил ее на раму велосипеда. На ходу он касался розовой холодноватой щеки, не удержался и поцеловал ее. Какая же женщина в четырнадцать лет? Просто своенравный бесенок. И взгляд такой холодный. Он усадил Елену на скамью и, сдерживая ее порывы, нежно гладил ее пальцы и мягкую копну шелковистых волос. Он был рад, когда Сергей прошел мимо и им пришлось присоединиться к молодежи. Но до поздней ночи он ловил злой, ревнивый взгляд девочки, на минуту осознавшей себя женщиной. Идя домой, Андрей почувствовал недовольство собою.
Уже давно сестра Лидия рассказывала Андрею о симпатии к нему со стороны Татьяны Загорской — миловидной девушки, ее одноклассницы и подруги. Нужно было сразу сказать ей, что любви нет, что в Питере ждет другая, любимая, с которой связан. Ну, сказать, что невеста — так будет понятнее, — и девочка пострадала-пострадала бы и угомонилась. Мать, наверное, видит в нем жениха — фу, гадость!
Жаркая ночь глядела в стекла веранды, на которой спал Андрей, и разгоряченное тело всю ночь металось по простыне. Подушка казалась раскаленным камнем. Едва рассвело, Андрей взял полотенце и отправился на реку…
* * *Слух о смерти Франца-Иосифа не подтвердился. Австрия оказывала упорное сопротивление. Германцы непостижимо умудрялись сражаться на два фронта.
Маховик войны завертел с необоримой силой все приводные ремни, винты и винтики бытия столиц и провинции, в обычное время тонувшей в медлительных буднях.
О близости войны говорили задолго до сараевского выстрела. И все же война пришла неожиданно. Обыватели верили, что только убийство австрийского эрцгерцога вызвало катастрофу. Даже после Сараева горбатовское общество разделилось — все спорили, будет ли война или нет. Спорили, раздражаясь, иное мнение принимали как личную обиду. Андрей полагал — война будет.
Молодой технолог Давиденко сказал на бульваре:
— Нельзя нам воевать с немцами — они нас побьют техникой.
Юнкер Кастальский заявил, покраснев, что за такие слова бьют по физиономии.
Андрей с трудом примирил товарищей и весь вечер сидел в кабинете отца, роясь в словарях, отыскивая цифры русских, австрийских и германских вооружений. Цифры одновременно казались и утешительными, и недостоверными.
И все же война пришла неожиданно.
Первые дни казалось — уйдут полки, и город заживет прежней жизнью, как жили Тамбов или Воронеж в дни московских пожаров.
Мобилизация выбросила из деревни в город тысячи запасных. Они заняли вокзалы, улицы, рынки. За бородачами, нагруженными солдатскими сундучками, шли, часто сморкаясь, заплаканные жены. Вечером чиновники не выпускали детей на улицу. Над городком черной ночью неслись пьяные песни, хотя продажа вина была строго запрещена.
Внизу над рекой раздалось несколько выстрелов. На другой день газеты писали, что мобилизация прошла успешно и мирно. Видно было — боялись иного.
Полки ушли, но жизнь не остановилась. То там, то здесь в знакомых семьях уезжали на войну поручики и прапорщики запаса.
Мимо Горбатова день и ночь громыхали идущие на фронт эшелоны с сибирскими и туркестанскими дивизиями, перевозки которых завершали собою мобилизационный план.
Обратно с фронта мчались пока еще чистенькие, светло окрашенные санитарные поезда с громкими надписями в три строки во всю стену гонких пульмановских вагонов. Военные наводнили город. На площадях, на улицах учили запасных и новобранцев. В одном из городских особняков поселился штаб крупного тылового учреждения, появились во множестве полевые хлебопекарни, бани, лазареты, интендантские и артиллерийские склады.
К шести часам вечера, когда из Киева приходила газета, у киоска-распределителя уже скоплялась шумная, пестрая толпа молодежи. Здесь часами стояли в очереди за номером «Киевской мысли» и «Русского слова» студенты, врачи, адвокаты, чиновники, экстерны, гимназисты. Жадно хватали номера газет и тут же вслух группами читали и обсуждали сводки главнокомандующего и комментарии военных корреспондентов.
Андрей делал вид, что все понимает, схватывает в ходе событий. На самом деле мелочи, отдельные стычки казачьих и кавалерийских полков, которыми в эти дни наполнены были сводки, только раздражали. В них назывались польские города и деревни, далекие от австро-германской границы, а раз так, то, значит, русские войска отступают. Но в то же время сводки говорили только о победах. Многие с видом знатоков объясняли отступление необходимостью начать решительные бои на каких-то заранее подготовленных стратегических линиях, но уверенности в этом не было, а штаб главнокомандующего и не думал рассеивать недоумение патриотически настроенных граждан империи.
Впрочем, вести из Галиции и Восточной Пруссии были определеннее. Там русские занимали город за городом, и можно было следить по карте, как цепь российских войск медленно продвигалась в глубь неприятельской территории.
«Русское слово» приводило выдержки из английских газет, кричавших во все горло о том, что «русский океан катит свои волны к Берлину», и многим, как и Андрею, казалось, что героические сражения, а следовательно, и победы еще впереди, а это пока только так — прелюдия настоящей борьбы.
Один из гимназических товарищей Андрея привез с фронта весть о том, что Ленька Киян пропал без вести в одном из первых сражений, что полк его, нарвавшись на австрийские фугасы, потерял семьдесят пять процентов состава, что погиб весь штаб полка во главе с командиром и адъютантом. Андрей вспоминал этого веселого гимназиста с железными кулаками, беззаботного драчуна, ходившего в бой с заломленной набок фуражкой, из-под которой выбивались кольца крупных мальчишеских кудрей; потом юношу, широкоплечего красавца певуна, гасившего свечи своим полным, звенящей стали баритоном; и, наконец, статного офицера в щегольской фуражке с белым околышем и в новой портупее. Андрей силился представить себе труп Леньки с пробитой головой, с выклеванными глазами — и не мог, до того это было далеко и невозможно.
А между тем сотни таких же деревенских и городских Ленек, удальцов и красавцев, клали свои головы на галицийских и прусских полях, и уже с первых дней войны это стало так просто и обыденно, как листки «Тангльфут» на столах и прилавках, усеянные мухами, и в этом равнодушии был голый, холодный ужас, студивший кровь и рождавший, вопреки воле, бешеный поток нежеланных, назойливых мыслей.
Семьдесят пять процентов от полка! От полка… Когда уходил на войну из города Горбатовский полк, Андрей стоял и смотрел чуть ли не полчаса, как под музыку церемониального марша шагали бодрые рослые люди, поставленные в железные, негнущиеся ряды, от топота которых вздрагивала земля. Так вот семьдесят пять процентов такой же бесконечной колонны, таких же рослых людей полетели вверх клочьями, обрывками мяса и костей, смешанными с камнями, пылью и песком. Но ведь во всей армии только две-три сотни таких полков. Какие же жертвы нужны для завоевания Царьграда или Галиции?