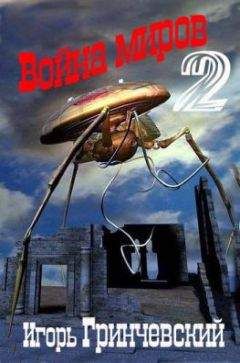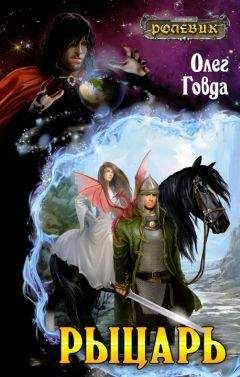Олег Смирнов - Неизбежность
— Вся, чего же размазывать, — ответил Колбаковский.
— А говорили: целая история… Тогда снова разрешите спросить, товарищ старшина? Насчет девах-зенитчиц вы обсказывали…
Вас было двое мужиков на батарее, и как же вы от соблазна удерживались? Выбирай любую…
— Глупости спрашиваешь, товарищ Кулагин. Потому глупости, что у настоящего армейца служба превыше всего, на любовные шуры-муры и прочее баловство на фронте времени не было.
И потом прикинь: как бы данная ситуация выглядела, если б мы зачали с подчиненными путаться, то есть жпть? Соображаешь?
Любвями надо заниматься на досуге…
Толя Кулагин — мне показалось, пристыжепно — приумолк, а я вспомнил, как в эшелоне, нежась на раструшенном сенце, старшина Колбаковский поддерживал солдатские вольные беседы на женские темы, как говаривал: "Штурмовать баб не потребуется, сами будут падать к нашим стопам!", и как глазки его маслянисто блестели. Ну, то было в дороге, в безделье, чего тут поминать, нынче предстоит дело. Война предстоит. И коли так, то правильно: служба, подготовка к боям, а лишнее отметай. Разве что в мыслях можешь оставить. Про себя. Для памяти.
Логачеев — шепотком:
— У меня на груди шерсть повытерта от бабьих голов.
— Товарищ лейтенант, — сказал Колбаковский, игнорируя реплику Логачеева, — я так же был бы радый, если б наш эшелон прислали в Забайкалье, в Даурский степ, к валу Чингисхана.
Ведь я ж и там служил молодым-то!
— А что это за вал Чингисхана? — спросил я, и поднявшиеся головы свидетельствовали: другим тоже интересно.
— В Даурском степу обитал повелитель татаро-монгольский Чингисхан, оттуда зачал совершать свои кровавые набеги. Нынчето времена изменились, татары теперь другие, и монголы другие… А от тогдашнего царства Чиигисхапова и остался древний вал. Он земляной, травою порос… По ту сторону вала Чшггисхаиа японцы окопались, по эту мы, родненькая Тридцать шестая армия, да никакой вал, как поется где? — в народной песне, что? — не загородит дорогу молодца. Будет приказ, рванем вперед! Правильно говорю?
— Правильно говорите, — ответил я, и мне захотелось назвать старшину по имени-отчеству. Но я их забыл, потому что крайне редко, а может, и никогда не звал его так. Все старшина да старшина, изредка — товарищ старшина. Я уж было и на этот раз едва не произнес "товарищ старшина", однако все-таки припомнил:
Кондрат Петрович. Чего ж тут не запомнить? Я сказал:
— Совершенно правильно, Кондрат Петрович.
И Колбаковскпй Кондрат Петрович разулыбался, как некогда в эшелоне мой ординарец Драчев, когда я его назвал Мишей. Но много же людям надо, чтобы они почувствовали твою ласку. Но скупись на нее, Глушков Петр Васильевич! Тем более что в жизни люди эти не столь уж часто ее ощущали, ласку. Впрочем, ты и сам не избалован ею.
Разговор иссяк, и Кондрат Петрович с еще не совсем закрытыми глазами пустил первую руладу, вторую, и уже знаменитый храп гуляет по биваку.
— Задает старшина храповицкого, — проговорил Головастиков и в зевке клацнул зубами.
Глядя на него, зевнул и я. В принципе вздремнуть, точно же, недурно: ночью марш. И солдатики, молодцы, устраиваются поудобнее — для сна, кое-кто свиристит носом. Я сомкнул веки, дышу равномерно, но и намека на сон нету. Наверное, в эшелоне от Йистербурга до Баяп-Тумэии отоспался на месяц вперед.
И жарко, душно, сохнет в носу и глотке. От пота зудит спина.
Почухаться бы о столб, как поросю. Столбов и деревьев не видать, придется потерпеть. И потому раскрой глаза. И смотри на солдат, которые спят и не спят, на выгоревшие от зноя небеса где-то в центре Азии, на дальнюю гряду сопок, на песчаную поземку, сыплющую горстями в глазницы верблюжьего черепа; он у моих ног, а поодаль, на солончаках, вышагивают ведомые монголами три верблюда, величественные, не доступные ничему, кроме смерти.
Как сказал бы Кондрат Петрович: поется — где? — в песне, что? — и вдаль бредет усталый караван. Была такая шикарная пластиночка до войны, до той, до западной.
Перед митингом солдаты затеяли бритье, подшивали чистые подворотнички. Знатный цирюльник Миша Драчев соскоблил свою щетину, потом взялся скоблить у Логачеева, а за тем — уже целая очередь: знатный брадобрей никому не отказывал в золннгеповской бритве. У Кулагина три свежих подворотничка, один пришил себе, остальные отдал Свиридову и Головастикову. Мне по душе солдатская готовность чем-пичем услужить товарищу.
Эта взаимопомощь особенно важна в делах серьезных — на марше, тем паче в бою.
Митинг открыл замполит полка. Он распевно зачитал Указ и заявил, рубя воздух ребром ладони:
— Это наша общая законная радость и гордость, что товарищу Сталину присвоили звание Генералиссимуса Советского Союза. Он величайший полководец всех времен и народов, ура! — Строй отозвался раскатистым «ура». — Товарищи! Сталин — наша слава боевая, Сталин — пашей юности полет! С песнями, борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет…
Было это из песни, замполит выразительно продекламировал.
Другие говорили уже не в рифму, что радуются и гордятся и, если товарищ Сталин прикажет, пойдут в бой с любым врагом, кое-кто уточнял — с японскими самураями. Я тоже радовался и гордился и тоже готов был идти в бой.
После митинга ко мне подошел Трушин, стрельнул папироску.
— Народ-то как настроен, а, ротный? Рвутся в наступление!
— Настроение боевое, — сказал я, очень довольный, что Федор, вероятно, не сердится больше на меня за бестактность; конечно, бестактность — приплести еще каких-то вшивых генералиссимусов. — Скорей бы уж начиналось, коли суждено…
— Суждено, — сказал Трушин. — Но когда — это прерогатива высшего командования, а мы с тобой мелочь пузатая…
Не было желания спорить по поводу самоуничижительной мелочи пузатой, в эшелоне уже спорили, хватит. Пускай каждый считает по-своему. Я был и остаюсь при своем мнении: не только великие, а все люди — личности.
Он стукнул меня по плечу, я его. Закурили. Зной спадал, и жить можно было. Солнце опускалось на западе за гряду сопок, подпрыгивая, как мяч. По небу косо прочертились солнечные лучи, окрашивая облака в багряное, желтое, лимонное и фиолетовое.
Красиво! А главное, жара меркнет, суховей утихает, как будто он решил вернуться восвояси, в пустыню Гоби. Можно не только курить, но и рубать ужин с аппетитом, и дышать в полные легкие, и не потеть так зверски. Жизнь! И вдруг монгольский степ как обрызгало сиропом, патокой, медом: заиграл иа аккордеоне, запел Егорша Свиридов:
Ты стояла молча ночью на вокзале,
На глазах нависла крупная слеза.
Видно, в путь далекий друга провожали
Черные ресницы, черные глаза…
Так, так. Что-то новенькое, вроде танго. Запас этой продукции у Свиридова далеко не исчерпан, я его недооценил. Как обычно, Егор пел с придыханием, выкаблучиванием, выдрючпванием, но клянусь: на глазах у Филиппа Головастикова и впрямь выступили слезы, до того расчувствовался. Вот благодарный слушатель, не то что я. И солист ГАБТа, заслуженный артист республики Сергей Лемешев, король цыганской эстрады Вадим Козин, народный талант ефрейтор Егор Свиридов выдавал — будь здоров! Поневоле заплачешь… Маэстро…
Я уж было внутренне усмехнулся, но сам себя одернул: что тут смешного? Головастикова ты отпускал по дороге заглянуть в Новосибирск, к жене; неверную, он собирался ее зарезать, слава богу, не зарезал, но сердце у него наверняка кровоточит. Почему же его не может растрогать это танго? Тебя же трогает аналогичное — "Синий платочек" — не танго, правда, а вальс, но цепа им единая. Что-то в этом все-таки, видимо, есть, ежелн под настроение задевает за живое. Многих, знаю, задевают новые военные слова: "Строчи, пулеметчик, за синий платочек, что был на плечах дорогих". Так не насмехайся над Головастиковым, а пойми и пожалей. Понимаю и жалею. И ты, Свиридов, играй, играй, как можешь…
Но кто же ведал, что это была лебединая песня Егорши Свиридова? Когда ночью начали марш и лошади дернули повозку, запеленутый в футляр старшинский аккордеон упал под колеса следующей подводы. Инкрустированное сокровище по имени «Поэма» приказало долго жить: раздавлено, щепочкн-железячки.
Узнавши про то, Свиридов сделался сам не свой. Солдаты бранили повозочных, утешали Свиридова. Активней всех — Колбаков ский:
— Не переживай, Егор! Я и то не переживаю, а моя ж собственность… Пес с ней, с немецкой «Поемой»! В Харбине, Мукдене заимеем японскую «Поему»! В Токио добудем!
Кондрат Петрович так и произносил: «поема», и это звучало отчего-то чрезвычайно убедительно. Однако Егор Свиридов был безутешен. Да и мне, признаться, было жаль аккордеона. И Свиридова тоже…
И вдруг Филипп Головастиков сказал:
— Я вот не прирезал свою курву… Курва она, больше никто, а знаете, как вспоминал про ее, когда слушал Свиридова? На побывке увидал на ей матерчатые тапочки для покойниц… Ну, такие дешевенькие, белые, так она их красила чернилами. Чтоб не шибко было заметно, что покойницкие. Увпдал — и пожалел курву…