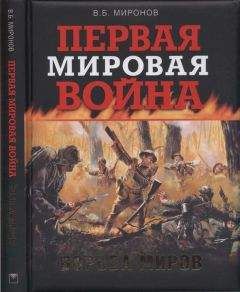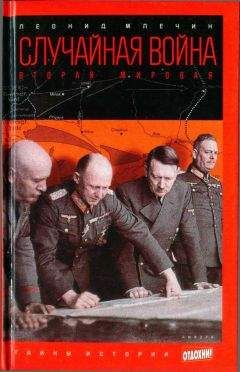Михаил Евстафьев - В двух шагах от рая
– Окстись! Какая, на.уй, болезнь! Запой у него очередной! Ровно раз в квартал бывает у Пашкова.
А потом, уже успокоившись, добавил:
– Впрочем, бляха-муха, у некоторых прапорщиков намного чаще случается, как месячные у бабы…
Моргульцев старшину не трогал. Он знал, что Пашков скоро отойдет и излечится сам. Как зверь раненый уходит в лес, прячется от всех, так и Пашков ушел от людей в каптерку, закрылся и лечился, то ли от поноса, то ли от тоски.
На третий день в каптерке раздался взрыв. Взрыв был не то чтобы очень сильный, похож он был на взрыв запала, но вся рота перепугалась, что старший прапорщик Пашков от беспробудного пьянства тронулся рассудком и решил покончить не только с засевшей в желудке заразой, не только с охватившей его загадочную душу тоской, но и с собой тоже.
Дверь взломали. В дыму обнаружили старшего прапорщика в состоянии белой горячки и пустую трехлитровую банку.
Пашков полулежал-полусидел на наваленных кучей солдатских вещмешках и шинелях, шевелил усами и вращал безумными зрачками, указывая на небольшую трещину в полу, откуда, твердил он, ползут скорпионы, фаланги и змеи, и вроде как он часть этих гадов уничтожил, когда метнул туда запал от гранаты. На всякий случай он держал наготове пистолет Макарова, которым собирался отстреливаться от «тварей ползучих».
– Пистолет отобрать, старшину препроводить в комнату,.издец, вылечился прапорщик! – заключил Моргульцев.
Диковинным образом спирт возымел успех и помог старшине избавиться и от афганской заразы и от тоски, и не далее как через неделю безуспешно доказывал Пашков ротному, что вовсе не хандрил, что взаправду болен был, и еще намекнул с некоторым злорадством в голосе, что если, не дай-то Бог, командира постигнет подобная напасть, и сядет он, товарищ капитан, на струю, то пусть знает, что прапорщик Пашков не жлоб, что он поможет, подскажет, где и почем достать трехлитровую банку спирта. Меньшая доза не убьет микроб, настаивал старшина как большой специалист в этом деле.
В отличие от Пашкова, лейтенант Шарагин мучился дольше, усердствуя не в питие спирта, а в регулярном приеме таблеток. Будучи человеком образованным, убежден был он, что заразу эту алкоголем не сломить, не убить до конца. Он поднялся в очередной раз среди ночи и, потный от болезни, сонный, заторопился на улицу.
Стараясь дышать через раз, при тусклом свете маленькой лампочки просматривал огрызок «Красной Звезды», затем тщательно скомкал его, чтобы размягчить жесткую бумагу.
Центральные советские издания и окружную газету «Фрунзевец» читали в полку часто, и не только тужась на очке. Читали о событиях в мире капитала, в стране победившего социализма, о парт и комсомольских съездах, смеялись над авторами афганских репортажей. Но скажи кто чужой недоброе слово против газетных историй об Афгане, встали бы как один на защиту, и клялись бы, что истинная правда написана об интернациональной помощи, и о том, как, например, подорвался бронетранспортер, потому что, лейтенант пожалел урожай афганских дехкан, вспомнив родной колхоз и родные поля, и тяжелый труд крестьянский и что сам когда-то механизатором собирался стать, но пошел в военное училище, потому что есть такая профессия – родину защищать; вспомнил об этом лейтенант и потому поехал по дороге основной, а душманы ее заминировали, конечно же…
Да и вообще, если разобраться, негоже критиковать Советскую армию: любой рассказ, любая галиматья газетная, любой подвиг, выдуманный или приукрашенный, – укрепляет дух военных людей.
…пусть живут небылицы в газетах… пусть не забывают люди, что идет война…
думал Шарагин.
…надо делать вид, что напридуманное в газетах – правда…
приезжают корреспонденты в командировки, чтобы прославиться…
как этот, например, как его там? Лобанов… писака!.. насочинил, тоже мне… себя прославил и нас зато, десантников, попутно…
Ночь, наряженная в колючие острые звезды, высилась над полком. Тихо спалось десантникам, если не считать гудящую на краю полка ДЭСку – дизельную электростанцию, к шуму которой давно все привыкли.
Шарагин остановился, чтобы очистить легкие после тяжелого въедливого запаха дерьма, закурил, любуясь шелковой луной и рассыпанным звездным бисером. Ныло внутри от болезни, весь будто ссохся он, точно выжали его, как половую тряпку, обессилел совсем, слабость наваливалась дикая.
Время от времени вверх уходили трассера – кто-то из часовых баловался, заскучав на позициях.
…как исстрадавшиеся души людей, которым надоела война, вырываются трассера и летят безмолвно ввысь, чтобы впиться в небо над Кабулом, в надежде убежать из этого города и из этой страны…
Показалось также, будто
…звезды далекие – это разбросанные по вселенной осколки разбитых душ; мерцающие в лунном свете, еще на что-то надеющиеся…
Вернувшись в модуль, он почти час ворочался, скрипя пружинами. А когда дрема начала запутывать мысли о семье и уводить в сон, на улице, почти прямо под окном раздался выстрел, и звонко вскрикнуло разбитое окно.
Женька Чистяков сорвался с койки и упал на пол еще до того, как пуля, пробив стекло, застряла в стене.
Догадавшись, что стреляли свои, что больше выстрелов не последует, как был в сатиновых трусах, нацепив кроссовки, Женька побежал на улицу.
– Бляди! – кричал он на ходу. – Смерти моей хотят!
К тому времени, как на улицу вышел Шарагин и другие офицеры, и на крыльце казармы столпилась разбуженная выстрелом солдатня, Женька успел основательно набить морду часовому.
Самоубийца-неудачник не защищался от ударов. В каске и бронежилете, солдат растерянно, сбивчиво доказывал отдельными словами в паузах между ударами, что как-то само собою у него все получилось, что не собирался он вовсе стреляться, что споткнулся. Врал, изворачивался, оправдывался.
…руку, наверняка, собрался прострелить, да испугался…
Невнятные мысли отражались на худощавом, забитом армейскими порядками лице солдата.
– Да по мне лучше бы ты тавось, застрелился! – продолжал бить солдата Чистяков. – Только по-тихому и вдали от модулей! А ты, блядь, решил под моим окном!
…затравили его деды… или служить в Афгане не хочет…
подумал Шарагин и зевнул.
…как бы Мышковского не довели до греха… отвечать-то мне…
пронеслось в голове.
Часовой походил на рядового Мышковского и внешне, и тем вызвал у Шарагина двойное чувство – жалость и раздражение. Нескладный был боец, замедленный в мыслях, судя по разговору, и в движениях неуклюж.
Каска свалилась с головы солдата, и удивительно смешно торчали уши бойца – как два куска расколотой пополам тарелки, которые взяли да приклеили к голове.
Форму молодой боец так и не научился носить, да и не могла она сидеть нормально на таком несуразном туловище.
…злость в человеке берет начало от желания отомстить… чем слабее оказывается человек, тем сильнее задавливают его, а когда наступает черед обиженного верховодить, он вымещает все на новеньких – это замкнутый круг…
…надо спать идти… пусть другие разбираются… в конце концов он не из нашей роты…
– Пойдем спать, Женька, – предложил Шарагин, когда они выкурили по сигарете.
– Какой теперь, к чертовой матери, сон?
Он прекрасно понимал Чистякова. Таким резким и вспыльчивым сделал его Афган.
…неизвестно еще, каким я буду под конец…
Чистяков протрубил в Афгане двадцать три месяца, а сейчас, вдобавок, восемь недель маялся в ожидании замены.
В столовку Чистяков ходить перестал. Питался консервами, хлебом, чаем. Подкармливали его от случая к случаю благодарные за песни и внимание барышни с товаро-закупочной базы и особенно загадочная блондинка, которую никто ни разу не видел, но которая, по рассказам, в Женьке души не чаяла.
– Она думала, что я жениться собрался, – делился с товарищами Чистяков.
– Куда ж тебе? У тебя семья, – рассудил Шарагин.
– Вот именно. Я ей так и сказал, если б не семья, увез бы на край света!
– А она что? – прислушался Пашков.
– Она, блядь, вся в слезах…
– Плохая примета, – предостерегал Моргульцев. – Скоро на боевые поедем, а бабы на войне удачу не приносят…
Весь следующий день Чистяков пролежал на кровати. Он и в город ехать отказался, когда подвернулась возможность, лежал и молчал.
– Где старший лейтенант Чистяков? – обвел взглядом подчиненных ротный.
– Их благородие отдыхают-с… – Пашков подкрутил пышные усы.
– Понятно, лег на сохранение… – капитану подобное состояние было хорошо известно. В таком настроении пребывали перед заменой многие. Береженого Бог бережет. Если начинался обстрел, самые смелые и отважные военнослужащие, ничуть не смущаясь, торопились в убежище. Кому хотелось по глупости погибнуть в последние перед отъездом домой дни?