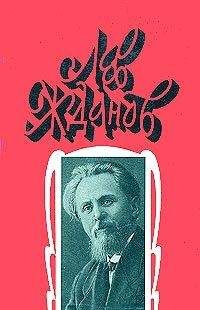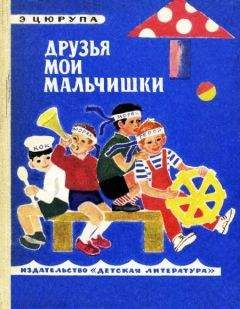Илья Чернев - Семейщина
После заключительных приветов и поклонов Андрей приписал:
«А каторга мине будет недолгая и легкая, и, дорогие родители, обо мне не тужите. Был мине суд военный. Генерал кричал, что я, дискать, сообщник и запираюсь понапрасну. Пужал, что будет мне плохо. Ну да бог да его милость.»
Блестящие, с поволокой, голубые глаза Дементея зараз потемнели.
— Оказия! — выдавил он, точно ударили его стяжком по кучерявой голове.
— Пресвятая богородица… девоньки!!! Андрей-то Иваныч! — запричитала Устинья.
Анисья вздрогнула, побелела и шаром выкатилась из избы. На заднем дворе, в свином омшанике, выплакала она свое бабье горе. За эти годы она прочно вжилась в мужнино хозяйство, не деленное с Дементеевым. С двором, с Андреем связывала навсегда девчоночка, — родилась вскорости после его ухода в солдаты. Анка — по тетке нарекли — росла бойким крепышом. Единственная утеха во вдовьей печали, в томительном ожидании… Простил ли, забыл ли злую обиду свою? Много раз душными ночами терзала сердце эта думка.
— Зовет… отходчивый! Ласковый! — сквозь слезы улыбалась в омшанике Анисья.
Воротясь в избу с заплаканными глазами, она объявила деверю и невестке, что поедет к мужу в Читу на свиданье, возьмет с собой Анку и, ежели Андрея и впрямь погонят в чужедальнюю сторонушку, согласна идти за ним на край света.
Дементей дал весточку батьке на Обор о страшном Андреевом письме. Иван Финогеныч прискакал с заимки, долго и внимательно вслушивался в бесстрастный книжный голос писаря, читающего для него письмо осужденного сына, не сказал ни слова… выронил скупую холодную слезину.
Вот оно опять, это самое, неведомое, жестокое, слепое, — как наважденье антихриста, — вторглось в его жизнь, которую он хотел провести в строгости древних законов. Почему это лихие, вражьи силы избрали его семью своей жертвой? Не потому ли, что он воспротивился им, бежал от них в тайгу?.. Он никому не желал и не делал зла, он может требовать, чтоб нечистая сила оставила его в покое. Он укочевал в сопки, чтоб не глядеть, как люди рушат свои хозяйства, в вине и жадобе идет на семейских лютая погибель, чтоб сберечь себя и своих детей от напастей и соблазнов. Разве это зазорно, противно богу? Иль он разгневался на его глупое, несуразное слово, брошенное в запале хромоногому Пантелею столь годов назад?
«Пустое!» — горестно поник он, думая о всепрощающем боге и своей богохульной обмолвке…
Иван Финогеныч благословил Анисью на поездку. Ее собрали в два дня. Решено было на своем коне доставить бабу в Завод, а дальше она пристроится к мужикам, везущим грузы по читинскому тракту, — народ трактом снует постоянно.
В день отъезда Анисья, после чаепития, обрядив Анку и обрядившись сама в теплую плисовую курмушку (Курмушка — женская одежда, род ватника), туго подвязала платком кичку, посидела на лавке с родными, по обычаю, в подавленном молчании, потом заспешила, закрестилась, бухнулась в ноги сперва свекру, затем деверю с невесткой:
— Ну простите же!
— Бог простит.
Поджав тонкие губы, Устинья застенчиво пробормотала:
— Мне-то пошто в ноги…
Даже в горе, постигшем семью, никто не смел забывать положенного по чину: ровня обязана просительно удерживать от земного поклона.
2Увезли Анисью в Завод, а там Дементей подрядил попутных возчиков доставить бабу с малолеткой в Читу. Три Анисьиных мешка — лопатина, харч и гостинцы Андрею — возчики забросили на тяжелые тюки и подсадили наверх ее самое. И заскрипели возы змеистого обоза в гору мимо леса…
Жуть брала Анисью — сопки, речушки, камень, безлюдье, шумит тайга неприветно. Кажется — вплотную сомкнулись позади каменные громады, навсегда скрыли родимую сторону, назад не пустят. А в Чите, — за дальними хребтами, в неведомом краю, — еще горшая мука ждет: допустят ли в тюрьму, да и как до начальства приступиться? Тоска сердце гложет. Не бабе в этакую даль забираться, — многие ли старики семейские дальше Завода заглядывали… Дождь, мозглый холод, хмурые пугающие кряжи, тайга, тоскливые ночлеги в черных избах станков на чужом народе, среди вонючих табакуров.
Через полторы недели, — будто вечность качался и стучал воз по ухабам тракта, — добралась Анисья до Читы. От возчиков она уже знала, где ей лучше остановиться, куда спервоначалу толкнуться со своим делом. Город поразил Анисью. Большие дома стоят в желтом песке и не валятся. Народ снует туда-сюда, и никто ни с кем не здоровается, как у них в деревне, — бегут мимо, будто тебя и нет на белом свете. А одеты до чего чудно!..
Подхватив покрепче Анку и тяжело дыша, — ноги в песке вязли, — Анисья почти бежала по этим чудным улицам. За высокими деревянными палями с острыми зубцами — приземистые мрачные корпуса тюрьмы. У Анисьи хлестко заколотилось сердце… Но в этот раз до мужа ее не допустили, — в неурочный час пришла.
Когда на другой день свиданье разрешили, Анисью бросило в дрожь. И долгий — в сотни верст, через сопки — тяжкий путь, и пугающий шумный город, и, главное, этот человек в арестантском халате, кругом бритый, в котором она только по незлобивому огоньку ясных глаз узнала Андрея, — все это было так диковинно, словно в дурном сне, что силы окончательно покинули ее. Она чуть не уронила Анку на каменный пол… Андрей вовремя подхватил дочку. В глазах темнело, ноги подкашивались, сердце заходилось, и в ознобе стучали зубы:
— Измаялась я, Андрюшенька!
А он, заросший колкой, после бритья, щетиной, прижал Анку к груди, потом легонько подбросил вверх и, казалось, не заметил жены.
— Ну, здорова, доча! Анка заревела.
— Не признаешь тятю? — горько ухмыльнулся Андрей.
Он пристально вгляделся в дочурку, поцеловал в лоб, передал матери; и мозг его пронзила отчетливая, острая как шило, мучительная мысль:
«Не моя… Ни глазами, ни носом, ничем не смахивает. Не в отца — в проезжего молодца».
Печальной улыбкой тронулись его губы, и он протянул Анисье руку:
— Ну, здравствуй… Письмо, значит, получили? И набралась духу приехать?
— Как есть… Родненький, да што же ты… Андрюшенька! — всхлипывая, скороговоркой запричитала Анисья.
Андрей насупил разлатые брови:
— Такая подмога мне не нужна… Давай-ка лучше о деле говорить: на Сакалин, что ли, пойдешь со мной?
Сахалин — это слово испугало Анисью. Еще дома объяснили ей всезнающие старые бабы, что это — гора, окруженная со всех четырех сторон синим морем-океаном… беспрестанно плещут грозятся волны, и нет человеку оттуда доступа на твердую землю… обитель беса, врага божеского и людского.
— Сакалин… — выдохнула она страшное слово. — А може, в деревне пожду тебя, Андрюшенька? Мне ли, бабе, с малолеткой в такую преисподнюю залезать? Боюсь я.
— Чего?
— Всего на свете боюсь, Андрюшенька. Города… окиян-моря.
— Дура! — добродушно хохотнул Андрей, но тут же потемнел: — И ты думаешь, я вернусь с Сахалина домой… на позор? на вековечную муку? на то, чтоб парни перстами на меня указывали?!
— А куда ж… ты? — Анисья пошатнулась, присела на корточки, точно гром ударил под сводами тюрьмы.
— Там увидим… но не домой, нет!
— А-а-а-а! — зарыдала Анисья и забилась на каменном холодном полу.
Надзиратель прекратил свиданье, бабу выволокли на воздух…
— Расквелил, дурень! — надзиратель толкнул Андрея в бок. — Иди уж!
Пристыженный Андрей, низко опустив голову, тихо поплелся в камеру.
«Ничего… отлежится, — думал он, — не люб я ей, ежели боится со мной идти… А дочка не моя…»
Ни на другой, ни на третий день Анисья в тюрьме не появлялась. Андрей началу беспокоиться: что приключилось с бабой? Анисья не на шутку расхворалась. Как пришла она со свиданья, почувствовала во всем теле палящий жар, знойную ломотную истому. Добрые люди, у которых стояла на квартире, позвали фельдшера…
Две недели пролежала Анисья — то в жару, то в зябком ознобе, — в бреду поминала Анку, невестку Устинью, тосковала о родной деревне. Только однажды в нездоровом горячечном сне увидала она Андрея в арестантском халате: будто стоит он на крутой-крутой горе посередь волнующегося моря и зовет на помощь.
И в ответ ему она закричала:
— А-а-ай! Не пойду! Переполошила хозяев…
А когда поправилась и пришла снова в тюрьму на свиданье, Андрей раньше всего спросил:
— Надумала?
Шатаясь от слабости, Анисья отрицательно покачала головою…
— Ну што ж, — страдальчески скривился Андрей, — не судьба, видно. Не поминай лихом… через неделю угонят. — Он поцеловал Анку. — А дочка, можа, и не моя. Забуду. Он не знал, что сказать еще, и глотал слезы…
И вот перед Анисьей сызнова тот же тракт, но уже другие возчики — они то молчаливы, как сопки, то о чем-то подозрительно шепчутся. Снова дремучая тайга, косящий дождь-проливень, гремящие ручьи, камень… воз ковыляет на ухабах.