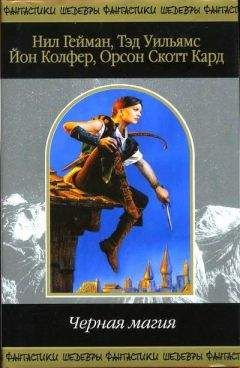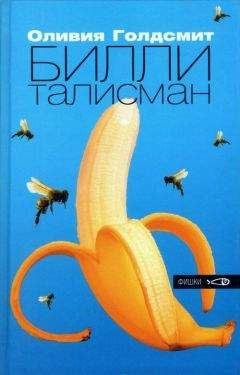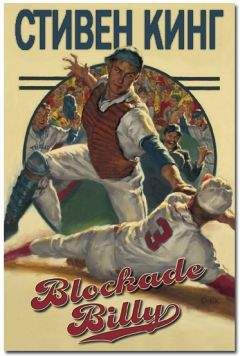Виталий Закруткин - Матерь Человеческая
— Их, гадов, тут примерно до батальона, — сказал Иван Марии. — Ихние саперы в лесу блиндажи строят для офицеров. Но, видать по всему, это только передовая часть. Где-то они на прорыв пойдут…
До поры до времени немцы не трогали хуторян, да и сами почти не показывались на хуторе, только шоферы на грузовиках и мотоциклисты проезжали. Так было до того дня, пока на дальнем грейдере кто-то не уничтожил немецкий штабной автомобиль. Об этом узнала вездесущая телятница Феня.
— Гранатами, говорят, фрицевскую машину забросали, — захлебываясь от волнения, рассказывала она хуторянам, — офицеров ихних всех чисто перебили, какие-то важные бумаги забрали, а машину спалили.
После этого и произошло то страшное, что сгубило две деревни и хутор, то, чего никто не ждал, то самое, после чего Мария осталась одна на чадной, повитой черным дымом, овеянной смертью земле…
Закинув руки за голову, она лежала на картофельном поле. Над ней сияло чистое, бесконечное в холодноватой своей голубизне осеннее небо. Чуть шевелилась натянутая паучком-кочевником на бурьянах серебристая паутина. Совсем рядом с неподвижной Марией, не замечая ее, купалась в пыли стайка куропаток. Серые, испятнанные ржавым накрапом птицы разгребали лапками пыль, валились набок, вытягивали шеи, беспечно переговаривались между собой. По меже деловито прошагал еж. Резко и часто хлопая крыльями, куропатки вдруг взлетели и потянули низко над землей на кукурузное поле. Подняв остроносую мордочку, еж проводил их долгим взглядом, сердито засопел и пошагал дальше, принюхиваясь к дразнящему птичьему следу.
Все на этой родной, с детства знакомой, милой земле было как будто таким, как всегда: так же щедро светило нежаркое сентябрьское солнце, так же щемяще грустно пахли пересушенные травы и просящая влаги земля, так же привычно перекликались сороки, куропатки, вороны, готовые к дальнему странствию стаи скворцов. Все было таким, и все как-то отступило в сторону, в ту томительную полосу отчуждения, которая отделила Марию от всего мира и оставила наедине с тем непоправимым, что навалилось на нее и чего никто на свете уже не мог отвратить…
…Карательная команда немцев появилась на хуторе перед вечером. Угрюмые солдаты сошли с грузовиков, постояли на улице, равнодушно поглядывая на притихших, жавшихся к забору жителей. Потом к солдатам подъехал на мотоцикле пожилой тонкогубый фельдфебель. Он что-то сказал, и солдаты рассыпались по всему хутору, стали заходить в каждый двор. Они быстро и небрежно обыскивали дома, сараи, коровники. Кое у кого забрали и побросали в грузовики одеяла, подушки. Пристрелили и освежевали десятка полтора свиней. Никого из жителей пока не тронули.
Взяли одного Ивана. Никто не знал, почему выбор карателей пал на него. То ли у немцев вызвал подозрение его молодой возраст, то ли не понравились им хмурое его лицо и тяжелый взгляд из-под рыжеватых насупленных бровей. Немцы схватили Ивана и повели к стоявшему на окраине хутора одинокому бригадному домику. Туда же согнали всех хуторских жителей. Плачущая, обезумевшая от страха Мария не заметила, что за толпой побежал и Васятка.
Уже совсем стемнело. Окружившие хуторян немецкие солдаты посвечивали электрическими фонариками. Тонкогубый фельдфебель, стоя на мотоцикле, сказал:
— За бандитское нападение на офицеров великой германской армии мы будем казнить много русских, чтобы другие имели страх и знали, что германский офицер и германский солдат есть лицо неприкасаемое… — Он вытянул худой, костистый палец в сторону Ивана: — В числе других мы будем сейчас казнить этого человека.
Толпа замерла. В темноте раздался крик Фени:
— Он же ни в чем не виноват! Он никуда с хутора не отлучался.
Солдат быстро осветил фонариком Фенино лицо.
Вытянутый палец фельдфебеля протянулся к ней:
— Мы будем сейчас казнить и эту женщину…
…Мария закрыла глаза от слепящего солнца. Лежа на картофельном поле, она слышала гортанное стрекотание сорок, карканье пролетавших вверху ворон, шелестящий шорох сухих бодыльев, вдыхала горький, с примесью дыма и гари запах полыни, и сквозь эти, ставшие чужими, сторонними, звуки и запахи видела только тот невыносимо тяжкий мир, который сузился в ее сознании до одной ночи, в какие-то неуловимые мгновения перерезавшей жизнь надвое.
Вначале этот мир возник в ее закрытых глазах, словно колеблющаяся завеса коричневого мрака. Коричневый мрак то светлел, то сгущался, и в этом странном, тягостном его шевелении размытым пятном плавало потухающее солнце. Оно тускнело, все больше теряло свои очертания и, наконец, пропало, растворилось в кромешной, пугающей тьме… И в этой беспросветной тьме Мария вновь увидела лучи электрических фонариков в руках немецких солдат. Неяркие, голубоватые лучи скользили по лицам потрясенных людей, выхватывали из темноты стоявшего на мотоцикле фельдфебеля, угол шиферной крыши бригадного домика, высокий, раскидистый тополь. Два солдата схватили телятницу Феню, завернули ей руки за спину. Феня закричала. Другие два солдата связали Ивана черным полевым проводом. Этот крепкий провод на хуторе называли гупером. Мария заголосила, расталкивая людей, кинулась к мужу. Женщины зажали ей рот руками, оттащили назад. Она вырывалась, захлебывалась от удушья, но женщины не отпускали ее, и она только мельком увидела, как солдаты подвели Ивана и Феню к тополю, как, истошно вопя, кусая солдат за руки, повис на Иване сын Васятка. Фельдфебель что-то громко сказал солдатам… Движением тела отталкивая сына, связанный Иван хрипло закричал:
— Смерть фашистской сволочи! Да здравствует коммунизм!
Через минуту, захлестнутые черным гупером, Иван и Феня повисли на толстой ветке тополя… Такая же черная удавка обвила тонкую шею Васятки… Весь извиваясь, он повис рядом с отцом… Черная змея гупера раздувалась, росла, наползала на Марию и острым, жалящим уколом пронзила ей сердце…
Очнулась она в хате у тетки Марфы. Вокруг нее стояли женщины с заплаканными, опухшими глазами.
— Зараз же беги в кукурузу, — наклонилась к Марии, прошептала тетка Марфа, — на хуторе остались немцы, они про тебя спрашивали. День-два пересидишь в кукурузе, пока эти гады уйдут, иначе они и тебя казнят…
Мария то впадала в беспамятство, то на короткое время приходила в себя. Она вырывалась из рук женщин, билась головой об стену, пыталась бежать туда, к тополю, до крови искусала себе руки. После полуночи, обессилев, она притихла, вытянулась на кровати и лежала, глядя в потолок невидящими глазами. Потом ее охватил страх смерти. Она задрожала, вскочила с кровати. Ей почудилось, что кто-то шагает за дверью, что сейчас войдут немцы, затянут ей горло тугим черным гупером и удавят так же, как удавили мужа и сына.
— Схороните меня, — взмолилась Мария, — схороните, родные, милые… Я не хочу помирать… не хочу… не хочу…
Перед рассветом тетка Марфа вывела ее из хаты, огородами проводила на край хутора и долго стояла, озираясь, пока Мария не исчезла в гущине неубранной кукурузы…
Легкий ветер прошумел в сухой картофельной ботве. Уже давно не было слышно ни одного выстрела, но Мария по-прежнему лежала с закрытыми глазами. Когда-то в детстве она видела, как соседская собачонка с лаем кидалась на лошадей, запряженных в тяжелый каменный каток. Сосед молотил расстеленный на утоптанном току ячмень, гоняя лошадей по кругу. Глухо постукивая, каток разминал колосья, перетирал солому. Пегая собачонка хотела ухватить бежавшую рысью лошадь за заднюю ногу, но не рассчитала прыжка и попала под каток. Раздался короткий визг, и через секунду Мария увидела присыпанную соломой раздавленную собачонку… Сосед выругался, остановил лошадей, отбросил мертвую собаку в сторону и вновь принялся за работу… Мария вспомнила смерть пегой собачонки, и ей показалось, что по ней самой прокатился, изломав все тело, гигантский каток. Руки и ноги ее болели, сердце билось слабо, в ушах не прекращался пугающий однообразный гул. Она подумала, что пришел конец, что сейчас она умрет, потому что ни один человек не может пережить то, что пережила она, и что, конечно, лучше умереть, чем жить такой раздавленной собачонкой, одинокой, никому не нужной…
«Я помру с голода, — подумала Мария, — и так будет лучше. Люди говорят, что голодной смертью помирать легко: сперва только человеку очень хочется есть, и он немного мучается, а потом теряет память и помирает… Скорее бы и мой конец пришел. Кому я теперь нужна? Не осталось у меня никого на свете, и я не хочу жить. Буду вот так лежать и помру…»
Ей было жалко свою разбитую жизнь. Она вновь увидела повешенных мужа и сына, и, хотя немецкие каратели повесили их на ее глазах, она все еще не верила, что это было, ей казалось, что она спит, и она мысленно уверяла себя, что это только дурной сон, который вот-вот кончится, что она сейчас проснется и все будет по-прежнему: с веселым смехом прибежит неугомонный Васятка, и она его поругает за царапины на румяной щеке и за порванную рубашку, потом вернется из своей поездки усталый, запыленный Иван… руки у него будут лосниться от солидола, а промасленный, давно потерявший цвет комбинезон будет пахнуть бензином. Фыркая и отплевываясь, Иван умоется, расчешет рыжеватые волосы большой расческой с выщербленными зубцами и только тогда подойдет к ней, к Марии, слегка нагнется, обнимет, крепко поцелует в губы и, как всегда, ласково назовет ее кнопочкой и конопулей… и она, такая, по сравнению с ним, маленькая, поднимется на носки, чтобы дотянуться до его губ, и они долго будут стоять так, прижавшись друг к другу, а красноватое закатное солнце четко отпечатает на чистом полу узоры тюлевых занавесок…