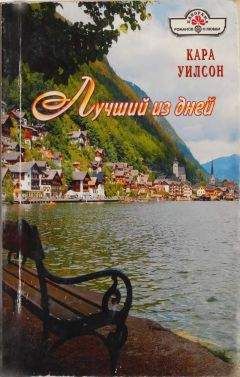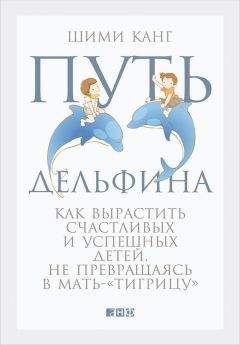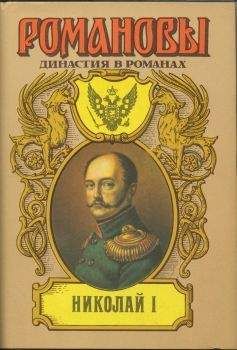Ежи Путрамент - Сентябрь
Не сразу они расслышали новые звуки в чудовищном грохоте. Не Мельник ли это цыкнул, приложив палец к бледным губам, насупив землистое лицо, напряженно щуря ввалившиеся глаза? В других камерах их коридора еще колотили в двери, песня неслась дальше и выше, а они притихли.
В первом этаже тоже шум, но совсем другой — топот, крики. Неужели вернулась охрана? А может, немцы, стоявшие у границы, в нескольких километрах от города, воспользовались тем, что все ушли, и уже очутились здесь? И эта мысль у них мелькнула: вот растерянные глаза Кригера, капли пота на лбу, и волосы, кажется, еще больше поседели. Все молчат и слушают.
Слушают и в остальных камерах. Как полчаса назад шум, подобно пламени, перебрасывался из одной камеры в другую, так теперь распространяется тишина. Пение внезапно оборвалось, в конце коридора последний раз ударили в дверь, потом все умолкло.
Топот и крики приближаются, растут, поднимаются по лестнице. Теперь каждая секунда может решить их судьбу. Галдеж, все голоса сливаются. Когда же наконец удастся различить в этом гаме хоть одно внятное, осмысленное слово?
Первое такое слово объяснило им все: «Товарищи!»
— Товарищи! — кричал человек в коридоре. — Спокойнее! У нас ключи! — В доказательство он потряс ими, и ржавое лязганье прозвучало для заключенных как нежный серебристый звон колокольчика.
Снова пение, одновременно во всем коридоре. «Вставай!» — настойчиво напоминала песня о бое, который их ждет; песня словно опасалась, что кому-либо из них счастье свободы покажется мирным покоем.
Заключенные инстинктивно встали навытяжку и так и стояли и пели, пока им не открыли дверь. Кто-то бросился к человеку в серой тюремной одежде, державшему ключи, кто-то обнимал его, кто-то пожимал его руку. Он вышел на свободу раньше их, быть может, всего минут на пятнадцать, но этого оказалось достаточно, чтобы он держал себя с несколько суховатой деловитостью.
— Оставьте, отпустите меня! — крикнул он. — Другие ждут!
Он побежал дальше, гремя ключами, а они устремились вниз. Открытые камеры уже опустели, правда, некоторые заключенные еще копаются в сенниках, в тайниках под подоконником, извлекая оттуда спрятанные сокровища, не понимая, как мало стоит на свободе самое ценное из их тюремного имущества — несколько спичек, иголка, горсточка стертой в порошок махорки.
Во дворе их встретил Вальчак. Кальве, тяжело дыша, остановился рядом, он улыбался и ловил воздух, чтобы успокоить сердце, сильно бившееся и от быстрой ходьбы и от радости. Карцер не пошел на пользу Вальчаку: он был бледен, под глазами образовались синие мешки. Только глаза выдержали испытание.
— Сядь, отдохни! — властно сказал он Кальве. — Не трать напрасно сил.
— Надо как-то организовать наш уход, — пробормотал Кальве и, полузакрыв глаза, сел на цементные ступеньки.
— Без тебя справятся.
— Надо проверить одиночки, карцеры, не пропустить бы кого-нибудь…
— Карцеры проверены, откуда бы я взялся?
— Канцелярия…
— Правильно. Я пойду туда. Идем, Витольд! — обратился он к Сосновскому.
— Ищите документы. Надо раздать людям…
— Сиди, отдыхай. Ночевать здесь не будем. Самое большее через четверть часа двинемся.
Двор наполнялся заключенными, мгновенно возникали шумные сборища, каждый из тех, кто шел решительным шагом, увлекал за собой других, тоже жаждавших немедленно действовать. За Вальчаком пошло несколько десятков человек. Дорогу преградили ворота между двумя дворами, несколько решеток, отсекающих отдельные коридоры, — их еще не успели открыть; пришлось вернуться, позвать того, у кого были ключи.
В канцелярии пусто. Дверца железного сейфа распахнута, на окрашенных в зеленый цвет запыленных полках сохранились более темные прямоугольники без следов пыли: здесь недавно еще лежали кипы бумаг, но они исчезли.
— Черт возьми! — крикнул кто-то. — Они унесли наши документы!
— Ищите в ящиках. Проверьте стол! — Вальчак с тревогой оглядел низкую, мрачную комнату: шкафов нет!
Из стола вырывали ящики. Летели бумажки: врачебное свидетельство, разрешение на отпуск для охранника, требование на ячневую крупу и соль.
— Витольд, просмотри это. Перед уходом сожжем.
А сам Вальчак двинулся дальше. Дверь из канцелярии вела в кабинет начальника тюрьмы. Убогое подобие роскоши: на окнах портьеры, слегка потертое кресло. А на аккуратно прибранном письменном столе — ровная стопка листков бумаги.
Вальчак кинулся туда, словно заранее зная, что это означает. В разграфленные рубрики вписаны имена: Аронсон Лейб, Азалевич Виктор, Баран Мечислав. Параграфы 93, 96, 97. И чтобы не оставалось никаких сомнений, сверху сделана надпись, подчеркнутая красным карандашом: «Список политических заключенных дисциплинарной тюрьмы в Козеборах на 1. IX. 1939 г.».
С минуту он постоял молча. Молчали и остальные, заглядывая через его плечо. Кто сказал, будто каждая подлость врага делает нас смелее? Хорошо знать, что борешься с негодяями, но доказательство их подлости, пусть и не принесшей реальных плодов, не доставляет нам удовольствия.
В канцелярии Сосновский все еще копался в бумагах.
— Пока что нет наших документов. Еще ящик…
— В печку, жгите бумаги. Может, там есть сведения о ком-нибудь из нас, зачем гитлеровцам знать?
Вспыхнул огонь, запахло дымом; заключенный, возившийся у печки, закашлялся. Плохо горели заказы на ячневую крупу и отпускные свидетельства. Вальчак не стал дожидаться.
Во дворе было полно людей. Кальве уже встал, его окружила группа недавних узников, он что-то говорил не торопясь и негромко и обрадовался, увидев Вальчака. Из-за угла выбежал Кригер.
— Идем, немцы…
— Где? Что? — Вся группа повернулась в его сторону.
— Сказали люди, которые стоят у ворот, — Кригер заметил Вальчака и Кальве, — идемте же, хватит…
— Гражданская одежда на складе!.. — крикнул кто-то, но от ворот снова прибежало несколько человек, они торопили остальных, а еще кто-то сказал, что склады не то пустые, не то их забаррикадировали, словом, все двинулись к выходу.
Свобода! В каком странном, величественном и вместе с тем грозном обличье предстала она перед Валъчаком! Толпа в серых халатах выходила из ворот. Запыленная придорожная зелень. Поодаль первые хибарки города. И где-то справа, к югу, за тем пригорком, за дикой грушей, за пятью километрами стерни затаилось, а быть может, уже двинулось на них новое рабство, еще более тяжелое, смертельное.
Вальчак взял Кальве под руку, попытался прибавить шагу. Иногда во сне привидится, будто ты убежал из клетки, выломал решетку, вышиб стекло — и вдруг свободное пространство, к которому ты рвался, оказалось тоже замкнутым. Вальчака преследовало это назойливое сравнение: как во сне, он хотел поскорей выбраться из опасной зоны, избавиться от угрозы, надвигающейся из-за стерни, окутанной голубоватой дымкой зноя, и, однако, не мог слишком решительно тянуть за собой Кальве, боясь, как бы тот не почувствовал, что задерживает их, и не захотел бы доказать свою героическую стойкость, после чего бог знает что сталось бы с его больным сердцем.
Вальчак оглянулся. Заключенные мало-помалу их обгоняли. На улицах ни души. В учреждениях с красными официальными табличками у входа пустые окна и распахнутые двери; скорее угадываемая, чем услышанная, тишина говорит о недавнем поспешном бегстве. На рынке — несколько подростков и закрытые лавки. Вальчак искал дорожные указатели на Калиш, Лодзь, Варшаву: сохранились только столбы, таблички вырвали «с мясом».
Откуда-то взялись мальчишки. Словно привлеченные барабанным боем, они бежали или шли, разглядывая людей в арестантской одежде, но держались поодаль. В окнах над лавочками появилось несколько лиц: не удрали, притаились Козеборы. Кальве тоже это заметил.
— Знаешь что… — начал он, и Вальчак сразу понял.
— Разумеется, надо что-то сказать людям.
Толпа в серых выцветших халатах заняла четверть площади рынка. Вальчак и его спутники были в самом конце. Вальчак видел перед собой худые, лысоватые, стриженые затылки. Без бумаг, без денег, без гражданской одежды, оставленные одним палачом на расправу другому. Горстка людей между двумя жерновами фашистских государств. Горстка людей и этот город, как и они, отданный смертельному врагу. Об этом, об этом нужно им сказать. Для того чтобы сбежавшиеся сюда, глазеющие на них мальчишки, эти головы, высовывающиеся из окон, этот человек, застывший в воротах, эти женщины, отважившиеся показаться на тротуаре, не ошиблись, разглядели уже в этот страшный день, быть может, еще далекую, но неизбежную минуту, почувствовали в толпе истощенных, измученных людей силу, которая когда-нибудь поможет им вернуться с победой.
Странный это был митинг. Первые слова Вальчака прозвучали как магическое заклинание и вызвали из затихших домов уже не десяток, а несколько сотен людей. Они слушали его пятиминутную речь, вглядываясь в него, желая уверовать в ту крупицу надежды, которую он в них вселял. А в задних рядах и заключенные и горожане оглядывались по сторонам, оборачивались, смотрели, прислушивались, не приближается ли неведомая опасность с пограничной полосы.