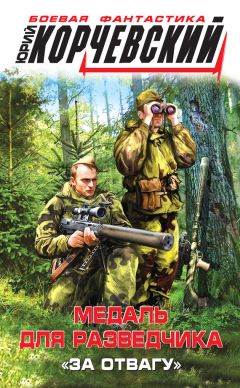Анатолий Баюканский - Заложницы вождя
— Эльза! — невольно вырвалось у Бориса. Собственными глазами он видел жуткую гибель любимой девушки, но в глубине души продолжал верить, что ошибся, что ему просто привиделся сон, хотел услышать, что скажет человек, который явно не будет благоволить к нему, тем более, обманывать.
— Понимаю тебя, Борис, как мужчина мужчину, — охотно подхватил военный, — представляю, как тебе нравилась смазливенькая немочка. Или я ошибаюсь?
— Это правда, — Бориса охватила тихая радость, — только она не просто смазливенькая, но… — не знал, как дальше развивать мысль, хотел сказать военному о том, что дело вовсе не в том, что Эльза — немка, здесь было нечто большее, не признающее национальности.
— Что ж, ты, видать, парень хваткий, хоть и явно не вятский, — с веселым добродушием продолжал военный, — двойная удача: красивая девчонка и… отличная крыша для агентурной работы. Понимаю, тебя особенно печалит, что прервалась связь с центром. Я не ошибаюсь?
— Я плохо понимаю, о чем вы говорите, — у Бориса снова потяжелела голова, видимо, действие укола, который привел его в чувство, заканчивалось, — вы-то кто?
— Извини, забыл представиться. Мурашко. Зовут Николай Васильевич. Для тебя, Борис Банатурский, если это настоящее имя, я — следователь внутренней тюрьмы НКВД. А ты…, надеюсь, знаешь, в нашей стране невиновных не сажают в тюрьмы, зато врагам народа пощады не дают и давать не будут. — Мурашко сделал паузу, пытливо оглядел бледное лицо парня, как отреагирует на его жесткие слова. Затем положил на колени портфель, щелкнув замком, выложил перед собой коробочку довоенных леденцов с разрисованной крышкой, на которой алела ветка вишен, бросил в рот леденцы. — Курить, понимаешь, врачи запретили, вот — сосу конфетки, чтобы отвлечься. Хочешь?
— Благодарю.
— У нас с тобой мало времени. Надо быстрей закончить предварительное следствие и… основательно подлечиться перед судом. Здесь хоть и решетки на окнах, зато кормежка хорошая, — следователь говорил ровным тоном, будто дело шло о какой-то мелочи.
— Меня будут судить? — Борис приподнялся на локте — За какие преступления? — Беленый потолок стал быстро чернеть, глаза самопроизвольно закрылись. Борис снова опустился на подушку.
— Нет смысла опережать события, — философски-спокойно пояснил следователь. — В обвинительном заключении все будет разложено по полочкам. Поверь, мне от души хочется по-человечески помочь блокаднику, так глупо попавшему в западню врага, но… — следователь наклонился к лицу Бориса, заслонив собой яркий свет. — Отвечай честно. Когда тебя завербовали? В какой обстановке? Как выглядели вербовщики? Что обещали? Отпираться — не советую, мы все про тебя знаем. И помни, что чистосердечное признание облегчает меру наказания.
— Вы, пожалуйста, не выпрямляйтесь.
— Не понял?
— Хорошо заслоняете свет. При свете я ничего не могу соображать. Теперь спрашивайте.
— Так удобно? Ну, и порядок. Хочешь леденец? Нет. Твоя воля. Что ж, для начала объясни, герой, каким образом ты попал на секретный комбинат?
— Я учился в ремесленном, в Ленинграде, а потом…
— Это я уже знаю. Однако и тут у следствия есть серьезные сомнения. Ваше сороковое училище эвакуировалось из Ленинграда в декабре 1941 года. Во время переправы через Ладожское озеро учащийся Борис Банатурский внезапно исчез, по заявлению очевидцев, он погиб под обстрелом. И вдруг, спустя год, появляется в Щекино некто, сильно похожий на бывшего Банатурского, правда, седой. Объясняет недоуменным дружкам, будто поседел во время ладожской трагедии. Вроде бы все правдоподобно, но… немецкая разведка не предусмотрела еще один момент. Продолжать?
— Ребята, которые меня знали по Ленинграду, — криво усмехнулся Банатурский, — тоже оказались подкуплены немецкой разведкой? Или вы шутите.
— Шутки тут неуместны! — резко прервал следователь Мурашко, и лицо его стало откровенно враждебным. — Шутки начнутся на дальней Колыме, на золотых приисках. — Некоторое время Мурашко сидел на стуле прямой и суровый. Потом вновь напустил на себя доброжелательное выражение. — Будешь раскалываться? Нас не проведешь. Грубо говоря, если станешь запираться, скрывать фамилии сообщников, вполне можешь схлопотать девять граммов свинца в лобешник. Ладно, оставим приговор для трибунала. Знаешь, что такое «тройка»? Итак, повторяю: чем можешь объяснить, что твое появление на комбинате странным образом совпало с прибытием в Сибирь крупной группы врагов народа из Поволжья?
Банатурский неопределенно пожал плечами. Совсем недавно в его жизни был стержень, смысл, а теперь… Он в полной растерянности смотрел на лицо следователя с крупной родинкой под правой скулой и не знал, что ответить.
— Всего через неделю ты встретился со своим связным.
— А как его звали? — машинально, думая о другом, спросил Борис.
— А ну-ка, кончай придуриваться! — впервые злобно ощерился Мурашко. — Разве тебе не знакома Эльза Эренрайх, которая, пряча концы в воду, покончила жизнь самоубийством, чтобы спасти всю цепь, всю организацию. Молчишь? Ладно, я тебе кое-что открою: ваша вредительская организация полностью изобличена. Почти все арестованные немки сознались в совершенном преступлении против советского народа. Одна только Ряшке, очевидный главарь и особо доверенный агент врага, успела отравиться, а остальные, — криво усмехнулся, — отправились к своим праотцам с нашей помощью.
— Так вот оно что! — наконец-то догадался Борис. — Вы раскрыли вражескую организацию? Смешно слушать. Я не знаю, чего вы там насочиняли, но одно мне хорошо известно: вы затравили девчонку, вовсе невиновную. И еще я знаю, в чем она была виновата. Прячете негодяя Каримова, да? — Борис провалился в черную пропасть, последними судорожными усилиями воли пытался удержаться на грани небытия хоть какое-то мгновение, чтобы успеть высказать все, жизнь окончательно потеряла всякую цену. — Пошли вы все к черту! Делайте со мной, что хотите! Но… придет время и вы… — Последним тусклым видением его стало желтое, но совсем не яркое солнце в ковше чугуновоза, он облегченно закрыл глаза.
— Симулируешь! — усмехнулся Мурашко. — Научили тебя хорошо, как это делать. Ладно, подождем. А чтобы тебе лучше дышалось, проснешься утром в мертвецкой. Там есть один жмурик, утром окачурился, составишь ему компанию — живой с мертвым, хорошая комбинация. — Мурашко встал, крикнул сестру. — Старшина! — Суровая медсестра словно ждала вызова, тотчас появилась в дверях. — Вызовите санитаров, пусть откатят этого… в «нулевку», на ночь, там свежо, мозги проветрит, а завтра…
— Мне все ясно, товарищ лейтенант!..
В мертвецкой, как ее еще здесь называли, в «нулевке», пожалуй, было похуже, чем в белой зарешеченной палате. Рядом, на полированном столе, покрытый простыней, лежал мертвый человек. Под потолком тускло светила крохотная синеватого цвета лампочка. Поначалу Борис не чувствовал холода, сознание возвращалось очень медленно, но часа через два его начал бить колотун. То ли случайно, то ли умышленно ему забыли положить одеяло, и парень дрожал под простыней. Страха перед смертью не было, только горечь и обида заполнили все существо. Чтобы отвлечься от страшной действительности, он стал вспоминать, как во время ленинградской блокады, в военно-морском госпитале, его тоже поначалу поместили в мертвецкую, правда, тогда он был без сознания. На следующее утро санитары пришли с носилками. Посидели среди трупов, покурили, посплетничали, ругая начальство, он все слышал. А потом вскочили, услышав его тихий голос…
Рано утром Бориса Банатурского на руках перенесли в палату, бросили одного в комнате, окна которой были зарешечены стальными прутьями. Оглядевшись, Борис забился в рыданиях и долго ничего не мог с собой поделать. Чувствовал себя ничтожно маленьким и убогим, которого любой из власть имущих да и просто недовольных может раздавить и пойти дальше, не оглядываясь. Немальчишеские мысли одолели его. «Как мы живем? Что за страна, где ничего не стоит самого честного человека обратить в виновного? Недаром слышал поговорку: «Был бы человек, а статья для него найдется». Не заметил, как прошел озноб, и Борис забылся.
Проснулся от посторонних шагов. Открыл глаза и увидел лицо, показавшееся знакомым. Не сразу признал следователя Мурашко. На нем был цивильный черный костюм, под пиджаком — белая косоворотка. Сам следователь, начищенный, упитанный, казалось, распространял вокруг себя теплые волны участия. Наклонясь над Борисом, подмигнул ему и легонько потеребил за плечо:
— Ну, ну, блокадник! Чего мокреть разводишь, подушки нынче дороги. Любишь кататься — люби и саночки возить. Любил вредить… Молчу, молчу. — Мурашко устроился на краешке кровати, поерзал, пересел на табурет, спиной к пустующей второй койке. Лицо следователя постепенно стало меняться, исчезли сочувственные токи, затвердело лицо.