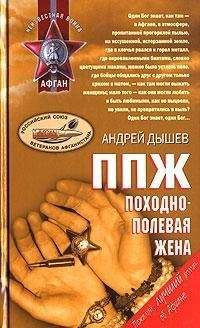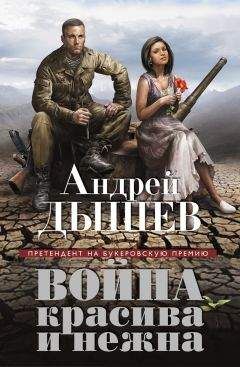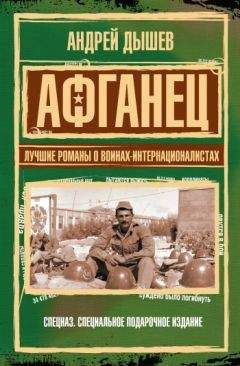Андрей Дышев - «Двухсотый»
— Грызач, не закрывай глаза!! Дыши, дыши, небритый подлец!!
Командир гранатометного взвода мял маскхалат Герасимова, ломаные ногти цеплялись за швы и петли, он тянул заостренный, покрытый грязной щетиной подбородок вверх; этот человек, полтора года не видевший бабы, полтора года сожительствовавший с войной, полтора года чахлым кустом прораставший в каменную макушку высоты, этот высохший, обескровленный, до идиотизма верный, ни разу не изменивший своей войне человек — он сейчас желал одного: дать в морду Герасимову. Потому что тот крепко его обидел. Потому что Грызач пальцем Гулю не тронул… Она для него была как богиня… Грызач только сидел… Рядом… И смотрел… На ее руки…
— Грызаа-а-ач! Живи, живи!!
Герасимов тряс голову старлея, кричал в его закатывающиеся глаза. Не уходи! Держись! Вертолеты рядом! Смотри, сколько вокруг нас огня! Посмотри, как светло, словно тысячи солнц обступили нас! Сколько мощи, энергии — разве здесь есть место для смерти?! Мы купаемся в реке Жизни и омываем свои лица кровью! Мы бессмертны, Грызач! Грызач…
Его губы были обжигающе горячими, как поверхность только что испеченного хлеба. Обхватив их ртом, Герасимов вдыхал в слабое, страдающее тело командира гранатометного взвода жизнь. Хватал ртом раскаленный дым и наполнял им слабые легкие Грызача. Живи, живи! Смотри, как это делаю я, держись крепче за меня, дыши моим воздухом, согревайся моим теплом… Что ж ты, сволочь, оставляешь меня — у нас с тобой одна Богиня на двоих, одна на всем белом свете. Что ж ты уходишь, подонок…
Ткнувшись в липкий лоб Грызача, Герасимов плакал. Два маленьких человека, почти неразличимых среди каменной пустыни, держались друг за друга, и горы, облитые огнем, вращались вокруг них, а вместе с ними кружились похожие на мухи вертолеты, и втягивались в гигантскую воронку белые борозды ракет, и туда же сваливались пастозные, ржаво-рыжие облака пламени, и выедающая глаза дымная рвань, и сливалось тягучей смолой афганское небо с битым серебром звезд. Загоняя вертолет в горку на предельном угле атаки, а затем снова кидая его в пике, наводчик навел перекрестье прицела на бегущих по ущелью людей.
— Пять духов и один наш, — доложил он командиру эскадрильи. — Наполовину голый, босиком… На нем только брюки, оружия нет.
— Духи несут его на себе, что ли?
— Сам бежит.
— Сможешь отсечь духов от него?
— Я же говорю — они бегут плотной группой… Сейчас потеряю…
Командир вертолета взял ручку влево, затем на себя. Вертолет задрожал от перегрузки, борттехника Викенеева кинуло на перегородку. Он ухватился одной рукой за край проема, подтянул свое потяжелевшее тело к пулемету, встал перед ним на колени, склонил голову, прищурил глаз и дал длинную очередь. Вертолет, едва не заваливаясь набок, сделал круг и снова спикировал на группу бегущих людей.
— Так что делать? — спросил наводчик.
— Да ёпни их! — ответил командир.
Наводчик еще круче опустил нос вертолета и надавил кнопку пуска. Струи пламени вырвались из подвесных кассет, ракеты устремились вниз, кучно разорвались — как раз в центре группы. Последнее, что почувствовал Удовиченко, — как кто-то из моджахедов хлопнул его ладонью по голой спине, должно быть призывая залечь. Но этот легкий, совсем не болезненный шлепок почему-то разорвал его тело — с противном треском, будто Удовиченко был сшит из простыни, и вот ее рвали и вдоль, и поперек, на лоскутки, на подворотнички, на носовые платки: фрррых! фрррых! налево, направо, вверх, назад, вперед, всем по куску, всем достанется, всему миру по нитке…
Головной дозор третьего батальона спустился в кишлак. Саперы, шедшие впереди с щупами, искали ребят из разведроты. Раскиданные по улочкам и дворам изуродованные и расчлененные трупы не трогали, кидали на них «кошку», тянули за веревку из-за укрытия, переворачивали и сдвигали окоченевшие трупы. Дважды из-под мертвых тел вырывалось пламя. «Сюрпризы» опять рвали и терзали уже давно отмучившиеся тела — в какой уже по счету раз? В какой уже раз, черт вас всех подери! Ну сколько можно мучить ребят?
Артиллерия долбила склоны ущелья, на которых могли затаиться духи. Мощные снаряды крошили гранит, спускали песчаные ручьи. Четыре пары «Ми-24» безостановочно, заход за заходом, кололи хребты реактивными снарядами, словно гигантскими вилами. Гора проседала, ее рыхлая спина дымилась. Четыре вертушки, израсходовавшие весь боезапас, перенацелили на вывоз раненых и убитых. Баграмский госпиталь работал в авральном режиме. Две дополнительные бригады, прикомандированные из Ташкента, не справлялись с потоком раненых. Солдаты-уборщики в приемном отделении, не разгибаясь, собирали тряпками лужи крови с кафельного пола, выжимали их в эмалированные тазы, снова ползали на карачках, размазывая лужи, и снова выжимали. Тазы выносили больные из числа выздоравливающих. Темный и мрачный коридор хирургического отделения в Кабульском госпитале был переполнен. Мест в палатах не хватало, запасные койки спешно собирали и устанавливали вдоль стен в два ряда. Пройти по коридору можно было по узкому проходу, лавируя между безжизненно откинутых рук и ног. Спертый воздух, напитанный испаряющейся кровью, вызывал тошноту даже у бывалых врачей. В прорезиненных палатках Баграмского госпиталя размещали на ночь «легких» раненых, но там было страшнее, чем в палатах с «тяжелыми». «Легкие», в отличие от «тяжелых», находились в сознании, и у них были силы кричать всю ночь, заново переживая во сне страшный бой.
Гуля снова корчилась от чудовищной боли в маленькой перевязочной медсанбата, пропахшей йодом и хлоркой. Стояла на коленях у пустого, холодного топчана и, прижав дрожащие ладони к груди, сгибалась и сгибалась, билась головой о ледериновый край, глотала слезы и спрашивала неизвестно у кого: когда же это кончится? Сколько уже можно? Уж терпение дошло до предела, истерзанная душа воет и стонет, да и не душа это уже, а кровоточащая рвань. Нет больше сил, устала, устала! А больно-то как! Что же там так болит и страдает — там, вокруг сердца, такое золотисто-бронзовое, искрящееся, призрачное, как гало? Валерочка мой родненький, мальчик мой солнечный, как же тебе больно! Откуда на свете столько боли? Разве хватит человеческой жизни, чтобы всю ее пережить, пропустить через себя, напоить слезами? Валерочка, голубь мой, герой мой голубоглазенький, останься живым, пожалуйста, а я буду терпеть сколько понадобится, отдай мне все свои раны, изрежь меня, избей меня — я выдержу, выдержу, только останься живым, останься, останься…
Говорила, что выдержит, — выдержала, не умерла, не растеклась соленой лужей под медицинским топчаном. Только глаза опухшие, красные и чешутся. Начальник отделения сказал, что нужно закапать альбуцидом, а еще неплохо бы смазать тетрациклиновой мазью. Намазала — вообще на чудовище стала похоже. Нос тоже красный и шелушится. Сама бледная, как поганка. Такой рожей только людей пугать. Особенно маячить не стала, пристроилась за спинами теток и оркестра. Все дивизию встречают, ликуют! Зулька-библиотекарша по этому случаю надела серебристое платье с люрексом. Толстуха Люба, начальница солдатской столовой, где-то надыбала букет роз, кинула на пропыленную броню, на которой ехал ее мужик, химик батальона Светочкин. Букет пока летел, пока кувыркался в горячем выхлопе, рассыпался на отдельные цветочки, и досталось почти всем бойцам. Прогремела, пролязгала гусеницами колонна разведбата. Оркестр, посеревший от пыли, тужился над своими трубами и ужасно фальшивил: вместо «Прощания славянки» получилось что-то похожее на «Червону руту». Техника первого батальона свернула в свой парк загодя, мимо ликующей толпы проезжать не стала. Ага, а вон и второй батальон пылит, земля содрогается, боевые машины пехоты идут ровненько, одна за другой, покачивают передками, как катера на волнах. Комбат Мельников, как положено, на первой машине. Шестая рота, наверное, в конце… Черт, что-то воздуха не хватает, грудь сдавило, дышать тяжело, и снова проклятые глаза слезятся. А тут еще пыль! Мало того что и так на кикимору похожа, так еще грязные подтеки на щеках будут!
Гуля отошла, отвернулась, вынула платок, подняла лицо к небу, чтобы слезы не выливались. Все… Спокойно… Сделай три глубоких вздоха… Все нормально. Все хорошо… А дрожь-то как колотит тело! Гусеницы лязгают, скрежещут, сотрясают землю, пропускают сквозь нее колебательные волны — будто сидишь верхом на отбойном молотке… Она осталась стоять поодаль, отбившаяся овечка, серая, зареванная мышь, комкающая в кулаке влажный платок… Вот уже можно различить знакомые лица. Бойцы лениво машут руками, приветствуя женщин… Стоп, колонна! «Бэшки» встали, качнувшись на амортизаторах. Высокая фигура Нефедова хорошо заметна — прапор, как всегда, расстегнут до пупа, солнцезащитные очки на облупленном носу, в зубах сигарета: «Бойцы, проверили оружие! Разрядить магазины! Коробки с патронами сложить у входа в казарму!» Вон Черненко спрыгнул с БМП, стащил четыре бронежилета — по два в каждой руке, да еще за спиной у него лязгают автоматы — пять или шесть; еле идет парень. Сашка Ступин все еще в шлемофоне, прижимает ларинги к горлу, что-то говорит по связи, лицо нахмурил, брови свел к переносице — весь такой деловой, что ты! Механик-водитель Курдюк торчит в своем люке, зевает, зыркает своими узкими глазами, будто щурится… А вон и Валера! Стоит на передке БМП, крутит головой, смотрит на оркестр, на теток, не видит Гулю. Лицо серое от пыли, только вокруг глаз большие розовые круги — следы от очков… Увидел? Нет, не увидел, волнуется, покусывает губы.