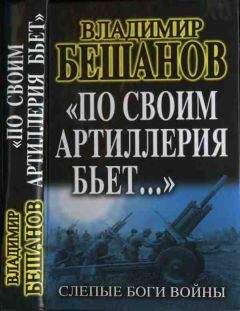Евгений Шишкин - Добровольцем в штрафбат
9
Военврач капитан Малышев, заведующий хирургическим отделением госпиталя, оторвал взгляд от разложенного на столе письма и потянулся к пачке «Казбека». Он дунул в мундштук папиросы, прикурил и забыто держал в руке зажженную спичку, снова глядя на страницу. Спичка напомнила о себе легким ожогом пальцев. Малышев встрепенулся.
— Жду, когда ты меня обнимешь, — вслух прочитал он, сделал обильную затяжку и тихо ответил на последнюю строчку написанного: — Нет, милая девушка, он тебя уже не обнимет. Нечем ему тебя обнять.
Малышев сложил письмо, спрятал в карман своего халата, сломал в пепельнице недокуренную папиросу и вышел из кабинета.
По одну сторону длинного светлого коридора располагались палаты, по другую — большие окна, выходившие в госпитальный сквер. Проходя мимо окон, Малышев посмотрел на бюст Сталина посреди центральной клумбы и на скамейку — ближнюю от бюста. На этой скамейке недавно застрелился майор Куликов, всполошив весь госпиталь. Наконец-то майор исполнил то, чего в открытую замышлял и от чего не смог отказаться. Он застрелился из маленького пистолета, трофейного «вальтера», — в висок. Где он раздобыл оружие, оставалось пока секретом и, похоже, к этому секрету нельзя было найти ключей, хотя из комендатуры приходил следователь и собирал чьи-то свидетельские показания. Одна из версий лежала на поверхности: пистолет ему оставил кто-то из дерзостных однополчан, так как незадолго до выстрела несколько офицеров из эскадрильи, в которой служил Куликов, навещали его. Однако «вальтер» мог попасть к майору и другим путем: оружие после Победы имелось не только у военных, но и у мародеров и мешочников, и поэтому… Впрочем, капитан Малышев об этом почти не задумывался. Главное — факт: майор Куликов покончил с собой.
Истребитель Куликова прошили немецкие зенитки, но и в подбитой машине летчик удерживал курс. Ему удалось вернуться на аэродром, посадить машину на полосу Обгорелого, раненного майора вытащили из кабины за минуту до взрыва горящего самолета.
— Таким жить я все равно не стану! — фальцетом кричал Куликов, когда, чуть окрепнув, приковылял к зеркалу и увидел себя частично разбинтованного. Возбужденный, трясущийся, он буквально вылазил из кожи, хотя живой кожи на нем осталось наполовину.
— Где мой пистолет? Капитан! Я вас спрашиваю! Где мое личное оружие? Если вы трус, то я никогда не был трусом! Я приказываю вам: вернуть мне оружие! Я боевой летчик! Я имею на это право! Я вам приказываю как старший по званию! — неистовствовал майор перед Малышевым, кричал, хотя это только ему казалось, что он кричит: на самом деле он только негромко, зовуще голосил.
Малышеву было горько слушать обвинения в трусости, но еще горше глядеть на этого отважного, безумствующего человека, который внешне уже мало походил на привычного человека. Обезображенный огнем, с одним глазом, без волос, без ушей, с отрезанным носом, — кое-как слепленный, ушитый, залатанный на операционном столе. Военврач молча сносил взвинченные оскорбления горемычного летчика, надеясь, что главный лекарь Время пусть не во власти изменить его лицо, но во власти дать силу его сердцу; что майор поосвоится к самому себе и ухватится за какой-то продолжительный интерес в жизни.
Этого не случилось. Майор оказался тверд и решителен в своих счетах с жизнью, а в предсмертной записке остался воинственным и непреклонным. На клочке газетного поля завещал надпись: «Мы все равно победили!» И наверное, не случайно застрелился вблизи каменного Сталина.
— Самоубивец-то очень нервозный был, — нечаянно услышал Малышев на похоронах майора слова госпитального плотника.
— Он не самоубийца! — тихо и строго сказал тогда Малышев, обернувшись к нему.
«Нет! Он, разумеется, не самоубийца, — повторил про себя Малышев, идя сейчас по коридору. — Он просто остался там, на фронте. Война отняла у него не красоту, она отняла и навсегда оставила себе его дух. Пуля из «вальтера» только дорешила решенное. Погиб майор Куликов в небе над Германией, а сюда его привезли уже не для жизни…» Тут Малышев поймал себя на странной мысли: зачем он доказывает себе то, что уже однажды себе доказал? Получалось, что он пробует доказать и объяснить про майора Куликова кому-то еще. Может быть, той незнакомой девушке, чье письмо он нес адресату?
Малышев подошел к последней палате. Она находилась в торце коридора, имела самый большой порядковый номер, но в обиходе медсотрудников нарицательно звалась «последней» совсем по другой причине. Больные здесь лежали с «последними стадиями» ранений, увечий, ожогов. Жили или доживали на острие. После самоуничтожения летчика Куликова таких пациентов осталось трое. Мичман Ежов дотягивал крохотный отрезок на этом свете. У него размозжены челюсти, он ел через трубочку, вернее, его кормили так сестры, и к тому же у него развивалась опухоль на пищеводе. Водитель с «катюши» Зеленин, раненный в позвоночник, перенес две операции и дожидался очередной. Шансы на спасение у него оставались, но на горизонтальное — лежачее — положение он был приговорен пожизненно. Третьим числился Федор Завьялов. Он мог жить еще очень долго. Его жизни теперь уже не угрожало ничто…
Войдя в палату, Малышев громко поздоровался. На его бодрительный голос никто не отозвался. Ежов и Зеленин и не могли отозваться, а Федор, повернув к врачу голову, сделал беззвучное движение губами. Он теперь говорил вслух редко, очень редко, по самой исключительной необходимости. Малышев прошелся между коек, не спрашивая больных про самочувствие (в этой палате он никогда не задавал такого вопроса), — и заговорил о постороннем:
— Жарковато… Грозу бы хорошую. После грозы воздух благородный.
Он остановился у раскрытого окна. За окном изнывал от зноя, спасая других своей тенью, старый вяз с узловатым темным стволом и широкими иззубренными листьями. Опершись руками на подоконник, Малышев постоял в раздумье и, все еще не решив, как ему поступить с письмом, подсел на стул возле Федора.
— Тебя, Завьялов, кто дома ждет? — мягко спросил он. — Кто родные твои, близкие?
— Зачем это вам? — недоверчиво покосился на него Федор.
— Война кончилась. О доме рано или поздно нам с тобой подумать придется. Родные-то, наверно, беспокоятся. Ждут.
— Пускай ждут, — тихо бросил Федор и отвернул голову от врача.
Федору не хотелось говорить с Малышевым. Еще меньше хотелось расспросов о доме и каких-то бесплодных утешений и наставлений. Ко всякому, кто пробовал с ним заговорить, Федор испытывал протест. Он стыдился и молча раздражался почти на всех: на медсестер, на врачей, на выздоравливающих фронтовиков из других палат, которые иногда сюда заходили. Относительно спокойно и равноправно он чувствовал себя только среди своих — возле этих немых горемык Ежова и Зеленина. Да еще покойный Куликов тоже считался ему своим. Все остальные — чужаки. Он их не любил. Он не любил и капитана Малышева. Эта нелюбовь была беспомощна, оттого Федор злился на себя и на окружающих еще сильнее, еще тверже не подпускал их к себе. Хотя при чем тут все окружающие?! При чем тут военврач Малышев?! Нет за ними вины в том, что он, Федор Завьялов, оказался слишком живуч, неистребим и жаден до существования! Нет их умысла в том, что обломок бетонной плиты в арке берлинского дома рухнул ему на ноги, а не на грудь, чтоб окончательно раздавить его, лежащего с простреленными руками! Нет их участия и в том, что Вася Ломов смог быстро вытащить его из-под завала, а санинструктор оказался опытен и проворен и медсанбатовская машина, находившаяся в ближнем переулке, скоро отвезла его на операционный стол. В бессознании, но еще живого!
В медсанбате Федору отпилили обе ноги выше колен. На том же операционном столе чуть позже по локоть откромсали левую, безнадежно раздробленную пулеметной очередью руку. Правую, последнюю конечность, тоже поврежденную пулей, ампутировал хирург Малышев, уже здесь, в эвакогоспитале: по ней распространялась гангрена.
«Четвертовали», — подумал Малышев, когда отнимал глянцевито-бурую, распухшую руку, на которой возле пулевого ранения едва заметно проступала синенькими пятнышками татуировка. То ли восход, то ли закат солнца.
— Тебе, Завьялов, надо бы письмо на родину написать. Ты продиктуй. Медсестры запишут. Я и сам такое письмо готов написать, объяснить все. Мне твое согласие нужно. Ну как, поручаешь? — спросил Малышев, уже не в первый раз замечая беспощадное несоответствие. На подушке — голова взрослого человека с маской ожесточения на лице, покрытом темной щетиной; под одеялом — короткое, будто детское, несоразмерно малое тело того же человека.
— Не надо никаких писем, — твердым шепотом ответил Федор.
Осторожно засунув руку в карман халата, Малышев поглубже утопил конверт, чтобы Федор случайно не заметил его, не воспалился подозрениями и излишней тревогой. Ничего за спиной Федора врач делать не собирался, объяснений без его ведома к нему на родину не пошлет, но и отдать принесенное письмо не отдаст…