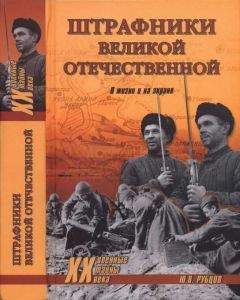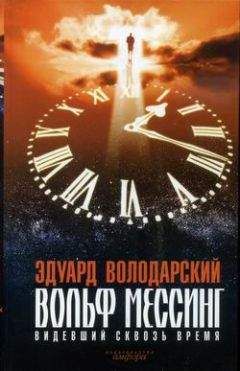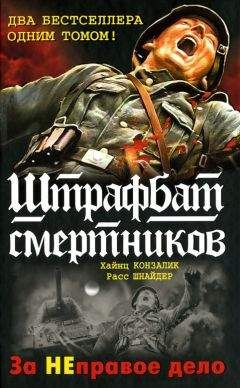Эдуард Володарский - Штрафбат
— Смотри, второй раз не попади, — пробурчал генерал. — Пока отдыхайте. Обуйтесь, оденьтесь. Поешьте вволю. Думаю, через недельку серьезные дела начнутся. Как тебя зовут, запамятовал что-то…
— Головачев. Андрей.
— А по батюшке?
— Сергеевич.
— Как тебя в батальоне приняли?
— Ну… не очень… До меня комбат был… видно, они его крепко уважали… забыть не могут, и поэтому ко мне соответственно относятся… Ничего, перемелется, мука будет, гражданин генерал.
— Да уж постарайся, комбат. Штрафники должны тебя уважать, иначе застрелят в первом же бою. Можешь идти, Андрей Сергеевич, командуй.
Головачев встал, вышел из блиндажа. Начштаба и комдив некоторое время молчали.
— Не идет у меня из головы Твердохлебов, — вздохнул Телятников. — Загубят они мужика.
— К чему ты это говоришь?! — зло посмотрел на него генерал. — Лишний раз показать, какой ты сердобольный, а я — дуб бесчувственный?
— Ничего я не хочу показать, — поморщился Телятников. — Просто не идет из головы, и все. Хороший мужик… надежный… на таких земля стоит.
— И что я могу сделать для хорошего мужика, если он в батальоне… бардак развел, если…
— Такого бардака, Илья Григорьевич, во всей армии хватает! — перебил Телятников. — Однако НКВД всех подряд не берет… А то и вовсе воевать будет некому.
Лыков помолчал, глядя на начальника штаба, потом взял трубку телефона:
— Калугин? Соедини с начальником особого отдела. Да быстро давай! — Лыков подождал, услышал голос в трубке и оживился. — Остап Иваныч? Лыков говорит. Как дела? Да, понимаю. Думаю, в скором времени получим приказ. Наступать, конечно. А куда нас кинут, спроси у Рокоссовского или у Жукова, они лучше знают. Слушай, Остап Иваныч, а как там бывший комбат Твердохлебов? Да, штрафного батальона, который был придан моей дивизии. Неужто позабыл? Не забыл? А что с ним? Где он? В особом отделе армии? Понял, понял… Что ему грозит-то? Ого! Не признается? Признание не хочет писать? Он мужик упрямый, это точно. Ладно, Остап Иваныч, бывай. Завтра жду у себя, кой о чем поговорить надо.
Лыков положил трубку, спросил:
— Слышал?
— Начальником особого отдела армии сейчас Чепуров? — в свою очередь, спросил Телятников.
— Он самый.
— Да я ж его знаю! — обрадовался Телятников. — Я его со Сталинграда знаю. Вместе у Чуйкова в штабе служили… Ну-ка, разреши я позвоню ему, Илья Григорьевич?
— Давай… — Лыков подвинул к начальнику штаба телефон проводной связи.
— …Ну так что же нам с тобой делать, Твердохлебов? — спрашивал следователь Курыгин, постукивая концом карандаша по столу. — Повеситься хотел? Что, совесть замучила?
— Замучила… — ответил Твердохлебов, не поднимая головы.
— А ты облегчил бы совесть — взял бы и написал все чистосердечно.
— Нечего мне писать…
Дверь в кабинет беззвучно отворилась, и вошел генерал-майор НКВД Чепуров. Следователь вскочил, как ужаленный, затараторил:
— Товарищ генерал-майор, следователь Курыгин…
— Садись, садись, — вяло махнул рукой Чепуров и, пройдя к столу, сел сбоку, положил локоть на стол, буркнул: — Продолжайте…
— Не хочет писать признание, товарищ генерал-майор. Уперся, и ни в какую.
— Ты зачем удавиться хотел? — вдруг спросил генерал. — Трибунала испугался?
— Чего его бояться? Больше смерти все равно не присудит.
— Тогда зачем?
— А не хочу виноватым из жизни уходить. Уж лучше самому себе приговор вынести… Да и жить больше незачем.
— А раньше зачем жил? — опять спросил Чепуров.
— Воевать надо было. Затем и жил.
— Больше незачем?
— Жену обнять мечтал, сына… — Твердохлебов отвечал, не поднимая головы. — Сломали вы меня. Больше ничего не хочу… Смерти хочу…
— У нас, Твердохлебов, и смерть заслужить надо, — усмехнулся генерал Чепуров.
— Разве не заслужил? — дрогнувшим голосом спросил Твердохлебов.
— Показания чистосердечные писать не хочешь, значит, не заслужил, — неожиданно встрял в разговор следователь. Генерал сердито глянул на него.
— Напраслину писать не буду, — тихо покачал головой Твердохлебов. — Так стреляйте…
— Этого я тебе, Твердохлебов, обещать не могу, — проговорил генерал Чепуров, — это вряд ли… А вот воевать пойдешь, это я могу тебе обещать. Воюй… Там и смерть тебя найдет, если судьба.
Твердохлебов поднял голову, взглянул на генерала — он не верил и не понимал, что сказал ему сейчас этот генерал НКВД.
— Не понял, гражданин генерал, что вы сказали.
Следователь тоже не понял — оторопевшими глазами смотрел на генерала и не решался спросить.
— А то и сказал. Возвращайся в штрафной батальон. Рядовым. Там уже новый комбат назначен. Воюй.
Твердохлебов медленно встал, опустил руки и, проглотив ком в горле, прохрипел:
— Есть воевать…
— Оформь документы, как положено, — глянул на следователя Чепуров. — И ему документ выдай, что следствие прекращено.
— Но, товарищ генерал-майор… — начал было следователь, однако генерал перебил его, приказал:
— Ну-ка, Твердохлебов, выйди.
Едва Твердохлебов закрыл дверь, как генерал грохнул кулаком по столу и заорал:
— Я тебя, блядь, за Можай загоню! Намастырился липовые дела стряпать! Запомни, еще одно такое дело — я тебя угроблю! Сам в штрафбат пойдешь! Там с тобой уголовники быстро разберутся!
— Есть, товарищ генерал.
— Кто на него материал собирал?
— Начальник особого отдела дивизии генерала Лыкова майор Харченко, товарищ генерал, — быстро отвечал следователь.
— Тоже падла хорошая! — рявкнул Чепуров. — Недаром трупоедом прозвали.
Генерал вышел в коридор, тяжело дыша, глянул на Твердохлебова:
— Слышал?
— Слышал…
— Ладно, пошли.
Из медсанбата полка раненые грузились в две полуторки. Санитары несли на носилках лежачих, одноногие хромали сами, опираясь на костыли и палки.
Савелий Цукерман разговаривал со знакомым водителем — младшим сержантом, молодым вихрастым парнем.
— Как житуха-то?
— Как в сказке, Толян, чем дальше, тем страшнее.
— Ха-ха-ха! А ты до сих пор в штрафбате?
— Спроси, чего полегче… Честно говоря, разницы никакой, только кормежка хуже.
— Кормежка везде хреновая — каша и каша. Мародерим, где придется…
— Толян, их в полевой госпиталь или куда?
— В полевой госпиталь армии, — лениво отвечал младший сержант. — Тяжелых потом дальше отправляют, по городам, а легких и средних у нас выхаживают.
— Отвезете, потом куда?
— Да сюда же! Раненых знаешь сколько? Возить — не перевозить.
— Толян, будь другом, возьми меня? А утром я с тобой обратно вернусь.
— Не могу.
— Почему?
— Не положено.
— Да кто узнает-то? Я в кузов с ранеными заберусь, кто меня там увидит?
— А патруль остановит, проверять начнет? Кому отвечать?
— Да у меня вон ранение в голову еще не зажило, посмотри! — Савелий встал на подножку, сдернул пилотку и сунул голову под нос младшему сержанту, показывая выбритый кружок со шрамом. Еще не сошли с кожи следы йода.
— Ладно, садись. Но в случае чего я тебя не знаю, сам без спросу залез.
— Спасибо, друг! — Савелий кинулся к кузову, легко перемахнул через невысокий борт и смешался с ранеными.
Темнело, и водители включили фары, грузовики, ревя моторами, тронулись, покатили, переваливаясь на буграх и колдобинах и ныряя в дорожные ямы.
Савелий сидел в кузове на корточках, держась одной рукой за борт, и его мотало из стороны в сторону, то и дело стукался плечами о плечи соседей. Сквозь рев моторов слышались стоны раненых, ругань, протяжные крики:
— Пи-и-ить! Дайте попи-и-и-ить, братцы!
— Водички-и! Глоток, братцы!
— Терпи, браток, скоро на месте будем! Терпи, говорю!
— Помираю, господи-и-и! Пи-и-ить дайте!
Глымов, Леха Стира и Чудилин шли ходами сообщения. Ночной мрак окутывал их, идти приходилось почти на ощупь. Время от времени Леха, шедший впереди, коротко посвечивал перед собой фонариком, бормотал сам себе:
— Кажись, сюда сворачивал… да, вроде сюда…
— Долго еще? — спросил за спиной Глымов.
— А хрен разберет… Изрыли всю землю, как кроты: заблудиться — раз плюнуть…
— Припремся прямо к фрицам в окопы — здрасте, не ждали? — усмехнулся Чудилин.
— Давайте в картишки скинемся под интерес! — подхватил Леха Стира.
— Ты давай ногами резвее двигай, катала хренов, — ругнулся Глымов, — идем уже черт знает сколько…
— О! Стоп, браточки, кажись, тута… — Леха Стира остановился, посветил фонариком: — Вон поворот, а за ним — яма и… дверь там…
Все трое перекинули автоматы наизготовку. Глымов еще зажал в руке лимонку, шепнул:
— Иди, чего стал?
Осторожно, шаг за шагом Леха Стира приблизился к повороту, заглянул за него, посветил и пропал в темноте. Глымов и Чудилин стояли, замерев.