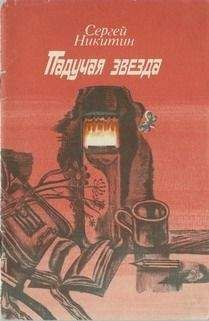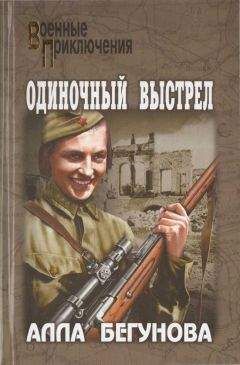Сергей Никитин - Падучая звезда. Убиты под Москвой. Сашка. Самоходка номер 120
И вдруг все кончилось. Затихло. Успокоилось. Выдохлась война. Сколько же можно! В голосе звенит что-то то ли от внезапной тишины, то ли от того звериного рева снарядов. Ровно гудит невдалеке пламя пожара, потрескивает в нем что-то, и чуть слышно на самых малых оборотах работают наши моторы. И все еще покалывает под ушами.
Живы. Живы и на сей раз. Ничего в нас не попало. Опять упредили. Скрябало что-то по броне, но это так, чепуха. Осколки, наверное. И разрывные.
Раздвинув ногами груду гильз, я спиной сползаю в свой угол и смотрю в небо. Дым, дым, а рядом чистое голубоватое небо. Дождя уже нет, кончился когда-то. Летают странные черные перья. Покачиваются в небе и плавно опускаются. Пепел от пожаров. Вот клочок побольше спичечного коробка, медленно крутясь, опускается мне на колено. Я накрываю его ладонью, он тепловатый и рассыпается на жесткие черно-серые лепестки.
Наводчик стоит на своем месте, свесив голову вниз, точно его рвет, локтем он уперся в казенник. Он всегда так стоит минуту-две после трудной стрельбы. Отдыхает. А лейтенант все еще смотрит в перископчик, теперь уже не спеша поворачивая его в разные стороны. Замер в своей норе и механик, он тоже, должно быть, смотрит в свой перископчик. Снизу он видит иногда больше, чем мы сверху.
После боя мы никогда сразу не высовываемся и не вылезаем из машины. Мало ли что. Может, снайпер где-нибудь затаился. Или еще кто. И после боя я всегда чувствую полнейшее отупение и равнодушие ко всему на свете. Мыслей нет. Пепел, голубое небо... дым... пустые снарядные зажимы... груда неостывших гильз. Одна прямо-таки жжет мне ногу через штанину повыше сапога, я отодвигаю ногу, и все.
Но вот затрещала-зашипела рация. Лейтенант склонился над ней, сипло говорит: «Сто двадцатая, да, да». А потом слушает что-то в наушнике и опять сипит: «Ладно, Степан Иваныч. Понял. Пехота уже там. Да, там! Я же вижу. Да, да. Да нет, все живы, это с голосом что-то. Ладно».
Он кладет наушник, оглядывается на меня и улыбается.
У него приятная и очень простецкая физиономия с белыми телячьими ресницами и с тонким девичьим носом. Вологодский он, у них там все такие белобрысые, как он однажды сказал мне. Сын пасечника и сам начал было учиться на пасечника, а выучился на командира самоходки. Я слабо улыбаюсь в ответ. Хочется сказать ему что-то хорошее, но что? Я не знаю. Знаю только одно: отличный у нас командир лейтенант Гриша Медников. Третий месяц без всяких выходных мы каждую ночь все едем и едем, то на запад, то на восток или на север, а днем стреляем с сотен метров, иногда и с десятков, и все еще живы. Видит он все вокруг и делает все, как надо. Потому и живы. На год только старше меня, ему двадцать первый, а уже лейтенант. В других машинах командирами младшие лейтенанты, а Гриша из училища выпущен с двумя звездочками, наверное, за отличную учебу.
Он наклоняется к моторному отделению и тихо говорит:
— Николай, ты как там?
— Ничего, — доносится шепот.
— Тогда давай в объезд вон того левого пожара, видишь?
— Вижу.
Механик Николай Лубнин — самый старший из нас, ему уже двадцать два года. И самый рассудительный, спокойный. Родом из-под Ярцева. Война его клюнула там еще летом сорок первого — был в партизанском отряде под названием «Плачь, Германия!», раненного, его вывезли на самолете, потом выучился на танкового механика, но на танк не попал, а дали ему консервную банку под названием «Т-60» — изобретали же такие! И выпускали тысячами! В первой же атаке подожгли его «коломбину» бронебойной пулей. И опять Коля отлеживался в госпитале, родители и меньшие братья сгинули в оккупацию, от деревни остались печные трубы. Был он в ней.
Все это рассказал нам лейтенант, от Коли мы ничего такого вовек бы не услышали, мало говорит наш старшина, тем более о себе. Ростом он невысок, но в плечах, как Поддубный, в колхозе вырос, сызмальства на тракторе. И лицо у него совсем уже взрослое, обычное деревенское, но очень взрослое. Не то что у нас у троих, и особенно у меня. Мы все трое любим механика, машину он чувствует, как себя, и часто, очень часто, когда есть время, он склоняется над моторами и, подсвечивая себе переноской, регулирует там что-то, подтягивает, а потом слушает их ровное гудение, меняя режимы, и опять колдует. Моторы наши безотказны, как кировские часы, и не раз выручали нас из беды; машина будто выпрыгивала из-под неожиданного огня, и фрицы лупили в то место, где от нас и след простыл.
...Мы объехали левый пожар. В лицо ударило жаром, рядом проплясали черные жирные клубы дыма, закрыв полнеба. Наводчик Венька Кленов вдруг сморщил нос, прикрыл его ладонью и посмотрел на меня.
— Чуешь сладкое? Фриц там горит... а может, и наш.
Я потянул носом и ничего, кроме теплого воздуха, не почувствовал. Не чую я теперь запахов. Каждый раз при выстреле мне бьет в нос едкая вонь сгоревшей взрывчатки, да так, что даже в затылке что-то шевелится, какие уж тут запахи, выжгло все мои эпителии. И не до запахов мне; вот уголек горящий в машину залетел, а за ним чуть ли не головешка. Да и снаряды надо расставить в пустые зажимы. Я выкидываю уголек и головешку, расставляю снаряды и выглядываю из-за брони.
В недалеком детстве, забравшись с ногами на свою кушетку, включив свою настольную лампу, которую сам же соорудил из медного подсвечника и оранжевого абажура, я любил рассматривать старинную толстую книгу. В ней мне запомнился рисунок под названием «Долина гейзеров в Йеллоустонском парке». Среди голубоватых скал из крупных и маленьких воронок там поднимались стройные столбы и столбики белого пара или дыма и сливались наверху в сплошное белое и очень красивое облако. И вот теперь из-за брони я вижу то же самое. Правда, не голубое и белое, а черно-грязное. И вместо картинных скал торчат корявые обломки стен и закопченные печные трубы, между ними перемешаны обугленные балки, доски, кирпич, выглядывает спинка кровати и какое-то перекрученное железо. Зато белые и черные столбы и столбики дыма струятся отовсюду, совсем как на той картинке. Струятся из развалин, из воронок, которых побольше, чем на картинке, и все они одинаковые, примерно в метр диаметром, многие перекрывают одна другую, ну прямо восьмерки. И дым, всюду дым: черный, вьющийся — из пожаров, едва заметный, синеватый — из воронок. Наверху все это слилось в огромное облако, очень высокое и похожее на перевернутый черный валенок. Ветра нет, оно стоит неподвижно, только медленно клубятся его черные, жирные бока, и наклонилось оно чуть вправо от нас, и потому пепел в машину уже не сыплется. Над моим ухом задышал наводчик Венька. Он уже остыл и успокоился и смотрит на облако и в поле, откуда мы стреляем. Мы с ним, как близнецы. Обоим по девятнадцать с половиной лет, ростом оба за метр восемьдесят, и оба еще не бреемся, нечего брить на наших еще детских физиях, и это, как объяснил нам с укором однажды механик Коля, оттого, что оба мы бывшие маменькины сынки и жили до войны, как у бога за пазухой. Да, наверное, это так, только мы не поняли тогда, что же здесь плохого: у Веньки отец был музыкантом в московских театрах, ходил во фраке, и жили они рядом с телеграфом на улице Горького; у меня отец перед самой войной был директором школы, и жили мы в теплой, солнечной Астрахани. Хорошо нам жилось до войны, мы не спорим. У Веньки отец погиб под Москвой в ополчении, мой под Брянском в сорок втором году. Но звания у нас разные: он старший сержант, потому что наводчик, я просто сержант, потому что заряжающий.
Венька, посмотрев на облако и в поле, вдруг сопит и тихо говорит:
— Еще одна сгорела. Сто пятнадцатая, кажется. Номера не видишь?
Номера я не вижу, там под облаком темновато, смешались дым и пепел, земля стала ровно черной, и лежат на ней серые комочки, присыпанные пеплом, — наши солдаты: три... четыре... пять... а вот и шестой. Нет, шестой — немец, он лежит головой к самоходке, которая бесприютно стоит в этом мареве, и у нее выворочена задняя броня. Подобрался все-таки в той суматохе на нужную дистанцию какой-то самоубийца и прочистил ее «фаустом» насквозь. Наверное, в бензобак попал, бензин там авиационный, взрывается хлеще пороха, вот и выворотило броню так, что сзади машина стала похожа на черный цветок. Когда такой взрыв, от экипажа, от четырех парней, остаются только подковки от сапог, пряжки и ордена-медали, да и то в разбросанном состоянии. Находят их иногда, если есть время искать. И портсигары находят, если они у кого-то были. Видел я недавно такой портсигар с окалиной по краям. Серый пепел в нем был вместо папирос. Трубочками.
У нас портсигаров ни у кого не имеется.
Венька вздохнул и зашептал мне прямо на ухо:
— Ты смотри, Димка! Лучше смотри и чаще! В панораме я ведь только впереди вижу! А с боков... И лейтенант больше вперед смотрит. А ты поглядывай, Димка! А то...
Он не договаривает, не говорим мы никогда о том, что с нами может быть. Да и вообще о будущем. Не ясно, будет ли оно. А будет — не спугнуть бы. На передовой мы, здесь убивало, убивает и будет убивать. Чего уж тут говорить.