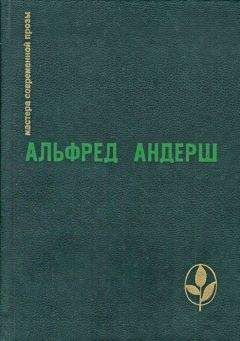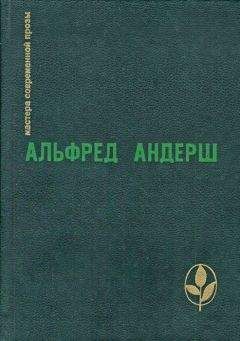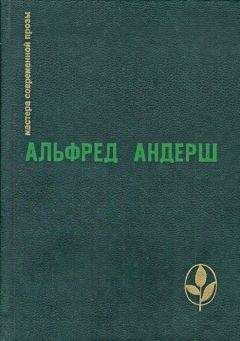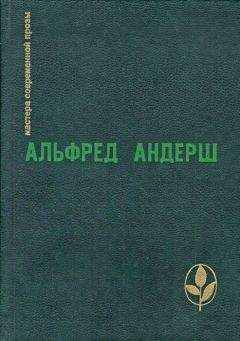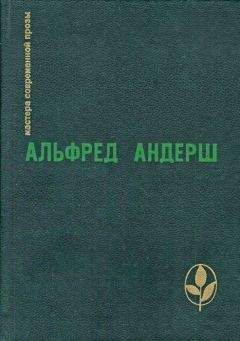Альфред Андерш - Винтерспельт
Наступило томительное молчание. Они стояли друг против
друга, Райдель чувствовал, что Борек смотрит на него, но сам не решался посмотреть на Борека. Летний день на датской пустоши обжигал кожу.
— Две недели гауптвахты я получу, — сказал Борек, — только если ты обо мне доложишь?
— Доложить я обязан, — сказал Райдель, тон его вдруг стал угрюмым. — Шнапс шнапсом, а служба службой.
— Господи, — сказал Борек, — ну и поговорки у вас!
Каждый раз, вспоминая, что с того дня рядовой Борек стал
изо всех сил стараться, Райдель удивлялся. Не столько из-за «душевной предрасположенности», сколько из-за физической слабости Борек, конечно, так и не стал образцовым солдатом — марши с полной выкладкой, занятия на местности (например, перекатывание после тройного прыжка) или рытье окопов могли довести его до состояния полного изнеможения, но, если не считать этого, он являл собой радостную для начальства картину служебного рвения (не подлизываясь при этом), весьма успешного старания не отставать, дисциплины в сочетании с высшей добродетелью солдата — способностью не привлекать к себе внимания.
Даже фельдфебель заметил это.
— Нет, — сказал он как-то фельдфебелю Вагнеру, — это просто невероятно.
Вагнер рассказал это Р: йделю и добавил:
— Я думаю, он вычеркнул Борека из своего черного списка.
Во избежание путаницы необходимо со всей ясностью указать, что речь здесь идет о хауптфельдфебеле 3-й роты, а не о батальонном фельдфебеле, штабс-фельдфебеле Каммерере.
Все звали ее Мирей — «Мирей, еще две кружки светлого!». Имя это к ней не подходило, потому что она была не девушкой, на которую можно глядеть с восторгбм, словно на маленькое чудо, а опытной женщиной с жестким характером; и если эта ее опытность, жесткость не выступали на передний план, то лишь потому, что у нее было асимметричное, худое лицо, она вообще была такой истощенной — то ли от работы, то ли от болезни, то ли просто от природы, — что только влюбленный мог бы счесть ее стройной или, если он звался Шефольд, внушить себе, что она словно сплетена из прозрачных теней и напоминает то темное место на гравюре, где как бы сконцентрирован, сосредоточен дух художника, хотя на самом деле облик ее скорее всего определялся просто тем, что она носила черное платье (может быть, она была вдовой? Но нет, он ни разу не видел на ее пальцах колец), что ее желтоватая кожа казалась смуглой из-за темных волос (Мемлинг!), а в этом трактире был всегда тусклый свет.
Ради нее Шефольд обрек себя на то, чтобы с половины шестого-то есть с того момента, когда капитан Кимброу высадил его в Сен-Вите, — пить горькое пиво, читать газету за столиком с крышкой из коричневого пластика в этой пивной, настолько низкоразрядной, что для американских солдат она была off limits[34], около семи часов съесть ужин, состоявший из стекловидного картофеля, плававшей в воде фасоли и ватной колбасы — его передергивало, когда, он об этом думал, — растянуть свое пребывание здесь до девяти часов, чтобы наконец, в последний раз подозвав к себе официантку, расплатиться и уйти. Против ожидания, он не нашел никого, кто доставил бы его обратно в Маспельт, так что весь путь до Хеммереса ему пришлось проделать пешком. Но ночь была прекрасная. Прекрасная и к тому же поучительная, потому что отсюда, с высоты, где так легко дышалось, с этой дороги, ведущей из Сен-Вита в Люксембург, он видел и слышал войну, — войну, которая там, в глубине, где находился Хеммерес, была скрыта от него. Он смотрел, как взмывали вверх и гасли сигнальные ракеты, на несколько мгновений заливая светло-серым светом поросшие лесом горы, а севернее на небе желтоватыми сполохами обозначалась битва в Хюртгенвальде-даже сюда доносился ее грохот. Великолепное зрелище, великолепное для одинокого путника, который может не опасаться, что осколки гранаты попадут ему в голову или в живот или обломают ели возле его окопа, оставив изуродованные пни, накрыв разлапистыми ветвями того, кто, скорчившись в этом своем окопе, безмолвно заклинает неведомое существо: «Господи, только не прямое попадание, умоляю, умоляю, только не прямое попадание!»
В прошлую субботу Шефольд мгновенно сориентировался и попросил Кимброу захватить его в Сен-Вит. Ведь в ближайшие дни ему предстояло бывать только у Хайнштока и у Кимброу, а потом отправиться к Динклаге. Он знал, что у него не будет времени ни на что другое, — в субботу была последняя возможность еще раз увидеть эту женщину. Лишь сегодня вечером он
сможет наконец доставить себе удовольствие снова повидать ее.
Странно, но в ее присутствии у него всегда появлялось ощущение, что те приемы, с помощью которых он скрывал от женщин свои чувства, на нее не действуют. Хотя он тщательно старался не смотреть на нее, никогда не следил за ней взглядом, тем не менее считал, что она может совершенно неожиданно, именно тогда, когда он к этому будет меньше всего подготовлен (например, молча приняв у него заказ), вдруг спросить: «Чего вы, собственно, от меня хотите?»
Этого момента он боялся, ждал его, мысленно прикидывал ответы, готовился сказать: «Познакомиться с вами».
Это смягчило бы ее вульгарно-раздраженную реакцию, не позволило бы выгнать его из трактира. Ни один человек не может возражать, если другой хочет с ним познакомиться.
Как она себя поведет?
Он надеялся, что она в ярости выкрикнет: «Нечего со мной знакомиться!», и только потом повернется и уйдет. В этом случае он уже наполовину выиграл. Кто же может упустить такой шанс, отказаться, когда предлагают познакомиться? Уж во всяком случае, не эта Мирей, от которой бедные родители ждали маленького чуда, а из нее вышла всего лишь официантка в захудалом трактире, изможденная и похожая на тень.
Но о том, чем все обернется, если дело дойдет до того, что она позволит ему, Шефольду, познакомиться с ней, он думать не хотел. Узнать ее можно, лишь оказавшись однажды ночью с ней наедине.
Но об этом, конечно, не могло быть и речи.
И вот только что, по дороге в Винтерспельт, он, к своему безмерному удивлению, вдруг подумал, что это не так уж и невозможно.
«Когда у вас свободный день? Я хотел бы с вами познакомиться».
«Оставьте меня в покое!»
«Но я непременно хочу познакомиться с вами».
Он мысленно повторил этот диалог. Вполне возможно-и даже очень просто, — что он сам начнет разговор.
Менее просто было представить себе, как бы он решился остаться с ней наедине, а ведь всякое взаимное узнавание в конце концов выливается в то, что он и она встречаются в какой-то комнате, где ночь и темнота, хроматическая гамма из серых цветов, хотя и здесь бывают свои протуберанцы и свои затмения; да и что, собственно, мешает ему в сорок четыре года приобрести новый жизненный опыт?
Мысль, которая прежде показалась бы ему чудовищной, возникла вдруг сама собой, пока он шагал рядом с Райделем (имени которого не знал) последний отрезок пути перед входом в Винтерспельт.
«Когда у вас свободный день?»
Даже если он получит отказ, все равно достаточно задать этот краткий вопрос, чтобы шагнуть в страну, остававшуюся белым пятном на карте его жизни. Этими пятью словами он нарушил бы принцип молчания, продолжавшегося всю его жизнь.
Она была темноволосая, жесткая, ее худое лицо, словно высеченное из топаза, обладало своеобразной привлекательностью.
Он решил, что вознаградит себя за этот переход через линию фронта, приобретя новый жизненный опыт.
— Нет, — сказал Кимброу, когда Шефольд зашел к нему в воскресенье после полудня, — из полка до сих пор ничего нет. Штабы опять не торопятся.
Шефольд сообщил, какое требование выдвигает Динклаге. В разговоре с Хайнштоком он решительно отказался его выполнить («я с удовольствием сделаю все, но я не хочу попасть в руки нацистских солдат»), и Хайншток, хотя и с пониманием отнесшийся к этому условию, не сделал ни малейшей попытки уговорить его. В конце их беседы, сегодня утром, он ушел от этой темы, заявив, что американцы не станут участвовать в игре, а следовательно, Шефольду не понадобится переходить через линию фронта или идти к Динклаге по какой-либо другой, менее рискованной дороге.
Реакция Кимброу поразила Шефольда. Он думал, что Кимброу тут же отклонит наглое требование Динклаге, возмутится, вспылит или — еще решительнее — ответит на поставленное Динклаге условие коротким холодным смешком.
А он лишь сказал без долгих раздумий:
— Это доказывает, насколько серьезны намерения этого kraut[35].
Слова Кимброу прозвучали так, словно он испытывал облегчение. И казалось, он заметил растерянность, протест на лице Шефольда, потому что сразу же попытался предупредить все возможные возражения.
— Попробую поставить себя на его место, — сказал он, — и представить себе, что вот я решил бы сделать нечто подобное, ну, скажем, сдать свою роту немцам, тогда мне тоже было бы недостаточно, чтобы какие-то американцы пришли ко мне тайно, утверждая, что они от немцев, что я могу на них положиться, потому что они настоящие честные американские партизаны и что они против Рузвельта… Извините, док, — сказал он, — я не хочу обижать вас. Я знаю, что вы немецкий патриот.