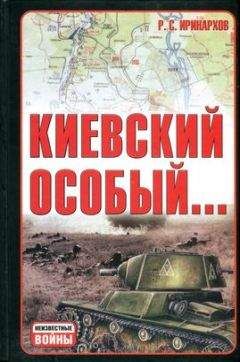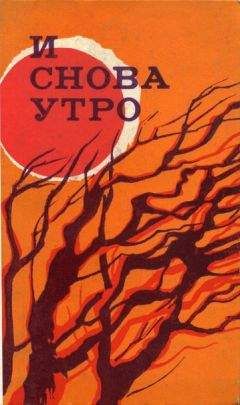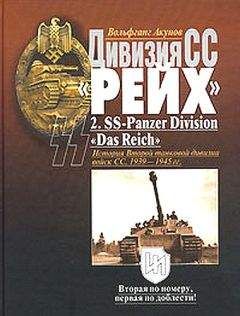Анатолий Кудравец - Сочинение на вольную тему
На взгорке Игнат Степанович остановился, обернулся и увидел Валеру. Тот только что выскочил из лесу и показывал рукой туда же, куда направлялся Игнат Степанович. Он бросил взгляд чуть дальше, на низинную прогалину между березняком и Яворским лесом, и заметил самого кабана. Тот пластался по низине, как будто гнал борозду на ближний угол Яворского леса. Снег был глубок, и кабан чуть ли не весь зарывался в нем. Вырвались на открытое и собаки.
«Ненадолго тебя хватит по такому снегу, голубок. Они догонят. Догонят и оседлают», — подумал Игнат Степанович, ускорив шаг.
Широкие ясеневые лыжи легко скользили по залубенелому снегу, и он достал дальний угол Яворщины раньше, чем кабан. Собаки заливались где-то на клубчанской стороне и все вроде на одном месте. Не иначе кабан забрался в чащу и не подпускал их к себе. Но нет — голоса собак повеселели, начали приближаться, и не успел Игнат Степанович сообразить, что делать — остаться здесь или краем леса пробежать дальше, как снова, уже вблизи, увидел кабана. Тот челноком прошил ельник метрах в тридцати от него и вышел на чистый снежный простор. Впереди, поперек его пути, тянулся мелиоративный канал, дальше лежало поле, а за ним темной стеной вставал Кургановский лес. Кабан держал путь туда. Метрах в тридцати вслед за ним шли собаки.
Игнат Степанович вскинул ружье и вел его по ходу кабана.
Это был настоящий секач: высокая могучая грудь, огромная, стесанная на клин голова… Разинутая пасть забита пеной… Собаки настигали его…
В обоих стволах были патроны с пулями, но Игнат Степанович медлил нажимать на курки.
«Куда ж ты идешь, дуралей! Перед тобой же канал…» Мысль эта молнией сверкнула в голове, и словно бы в ответ на нее кабан сделал отчаянный прыжок. Прыжок был стремителен и красив, кабан оторвался от земли и на какое-то мгновение как бы повис в воздухе, в свободном полете. Он пошел бы дальше, но в событие вмешалось то, чего ни зверь, ни человек не ожидали. На противоположном берегу канала за зиму выросла тянувшаяся вправо и влево широкая, зализанная ветрами снежная крыша. Кабан опустился как раз на нее, пробил насквозь и всей своей мощной тушей шастнул вниз, в сыпучий, глубокий снег. Тут его и нагнали собаки.
Игнат Степанович выскочил на берег канала. Кабан барахтался в сухом, вспаханном копытами снегу. Огромная, в половину туловища, с желтыми загнутыми клыками голова вытянута вверх, навстречу собакам, черная щетина на загривке стояла шильем. Разинутая пасть была забита желтой пеной, и она клочьями падала на снег, грудь запаленно вздымалась. Собаки так и заходились от ярости, бросались вниз и, как на пружинах, отлетали назад.
Сзади над кабаном нависала толстая снежная крыша, перед ним были собаки.
Боковым зрением кабан заметил человека, выскочившего на берег канала. И откуда только сила взялась: внезапный, как выстрел, прыжок вверх, на берег канала, прямо на собак — те, точно щепки, разлетелись в стороны, — еще несколько прыжков, и лес проглотил его, как иголку. Опомнились, заголосили собаки, устремились вслед.
Подбежал Валера: куртка расстегнута, шапка на затылке, лицо раскрасневшееся, в поту.
— Ну что?
— Вопщетки, ты понимаешь: и по такому снегу он идет наравне с ними, — Игнат Степанович выглядел растерянным. — Ага, выскакиваю сюда, а он в канаве, как мышь в муке. И собаки шалеют.
— Ну?
— А потом увидел меня — и на них, на берег… Как они только успели отскочить. А он по своему же ходу назад…
— Постойте, тут же и пятидесяти метров не будет, — пытался понять происшедшее Валера.
— Ага… Ты видишь, какую кротоловку ему подстроили? — Игнат Степанович шел по кабаньему следу. — До крови изрезал ноги, и пена клочьями… Он думал, что на той стороне твердое, а там снега накрутило за зиму. Он как шел, так с ходу и мотанул… Метров пять летел… И если б там была земля, пошел бы дальше. Такая сила, пудов шестнадцать, не меньше…
Валера пытливо посмотрел на Игната Степановича, и только теперь до него начал доходить смысл всего, что произошло здесь…
Игнат Степанович достал из кармана трубку, но набивать ее не спешил, прислушивался к голосам собак. Они доносились откуда-то с другого конца леса.
— Вопщетки, ему ничего не оставалось, как пойти в атаку на них, в лоб… — Игнат Степанович опять прислушался. Голоса собак еще доносились. — А теперь нехай они ему ж… поцелуют, — сказал как бы про себя и засмеялся тихим виноватым смехом.
Он натаптывал трубку и, казалось, всецело был занят этим, но видно было: голова его занята какой-то другой, важной мыслью. Игнат Степанович даже усмехался про себя, шевеля губами, и в глазах его стоял светлый, словно это заснеженное поле, туман… Усмехался и прислушивался к чему-то, звучащему в нем самом и что мог уловить только он.
И Валере вдруг опять стало страшно за него, как тогда, в Минске, на вокзале. И он затаился в себе, боясь чем-то неосторожным нарушить тихую сосредоточенность, в которой пребывал Игнат Степанович.
Игнат Степанович тем временем прикурил, выпустил вверх дым, поднял взгляд на Валеру, и в глазах его уже не было тумана — они были чисты и ясны, и что-то веселое и родное теплилось в них… Валера тоже улыбнулся, чувствуя, как у него самого глаза застилает туман…
Высоко в небе над ними, как паук паутину, тянул дымную нить самолет. Если бы у летчика было время и желание оторваться от заполненных приборами панелей и взглянуть вниз, он увидел бы заснеженную зимнюю землю, лежащую под ним подобно развернутой карте.
А если бы еще летчик мог спуститься ниже, он увидел бы серовато-белое липницкое поле, и Яворский лес, и дорогу, которая прямой линией рассекала лес на две половины. Дорога вела из Клубчи в Липницу, оттуда — в район и дальше, во весь свет.
Он мог бы увидеть собак. Они догнали-таки кабана, хотя тот уже и не убегал от них. Теперь он был хитрее: затаился в чаще и выжидал, набираясь сил, готовясь к неизбежному моменту, когда сам перейдет в атаку, — и горе тому, кто встанет на его пути…
А еще летчик разглядел бы на поле около леса две маленькие фигурки людей. Они оживленно размахивали руками, и у обоих изо рта шел морозный пар — разговаривали между собой.
У летчика, закованного в красивые линии металла, была своя задача. Вверху над ним сияло слепящее солнце, прямо перед ним простиралась голубая, сотканная из крошечных серых точек бесконечность, внизу под ним лежала земля. Летчик знал, что она живет, дышит, любит, сражается за себя, и от этой мысли ему было легче переносить одиночество в пустой и холодной бесконечности.
РАДУНИЦА
Повесть
На радуницу до обеда пашут, по обеде плачут, а вечером пляшут.
ПословицаПеревод В. Щедриной
I
Встречающих на станции, как всегда, было больше, чем прибывших, хотя из поезда сегодня высыпало немало. Иван знал, что его ожидать здесь никто не будет, однако постоял возле низенького станционного заборчика, пока люди растасовывались кто куда. Все же неплохо было бы увидеть кого-нибудь из знакомых, будневских или из какого соседнего села.
Но знакомых не было. Начало темнеть, и он достал из чемодана фонарик. Закинул чемодан на спину, засунув палку под ручку, шел, светил, выбирая дорогу. Уже с неделю стояли ветреные, с солнцем дни, воду стянуло, и земля начала просыхать, была мягковатая и как будто теплая. Дорога успела отвердеть на голых местах и тут, в лесу. Из чащи тянуло оттаявшим мхом, смолой.
И впереди Ивана, и сзади слышались голоса, мигали фонарики: сегодня в эту сторону шли многие. Иван начал вслушиваться в гомон.
Иван любил эту некороткую — что ни говори, а все десять километров — дорогу домой. Любил за то, что она имела над ним какую-то магическую власть, которой он подчинялся, даже не чувствуя этого. Стоило только выйти из вагона, перейти пути и углубиться в лес, как все то, чем он жил в городе, оставалось где-то там, вне его, Ивана, а сам он становился как будто иным — мягче, добрее. Молчаливый и задумчивый по характеру, здесь он веселел, его тянуло говорить и смеяться. Он вдруг начинал ощущать в себе смелость и твердость легко и просто живущего на свете человека, для которого нет ничего невозможного, который все может, стоит лишь захотеть. Он и сам не знал причины такой перемены в себе, но перемена эта происходила и радовала его. Он готов был приветить каждого, кого б ни встретил, — будь тот из Буднева или из какого другого села этих краев — они теперь были ему словно добрая большая родня.
Его удивляло, если люди не радовались встрече с ним так же искренне и откровенно, как и он сам.
Ему хотелось, чтоб все считали его своим. Он не понимал, что даже для будневцев теперь он был всего лишь гость. А с гостя что возьмешь?