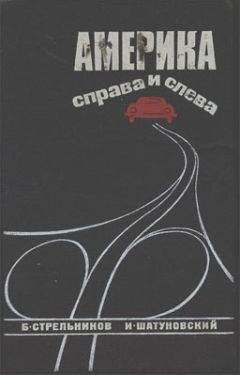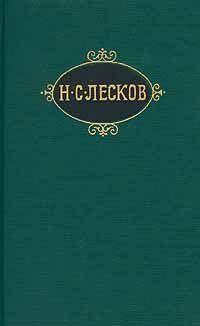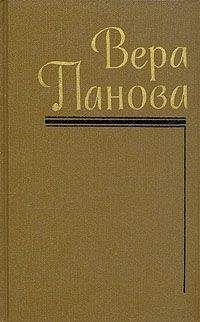Николай Родичев - Не отверну лица
— Сейчас заполним небольшую анкету, — поспешно заявила Валя. — Потом с вами поговорит советский офицер. А еще потом — будете ожидать отправки в лагерь военнопленных.
«Лагерем военнопленных» у них, по всей видимости, называется кладбище, — думал Густав. — Да, но разве о таких вещах можно говорить устами девушки?»
— Я не собираюсь ни с кем разговаривать здесь, — кашлянув и дрожащей рукой взявшись за край стола, сказал Густав давно продуманные слова. — Пусть меня поскорее ваши расстреливают, или, как вы образно выразились, отправляют в лагерь...
— Слыхали и такое, — спокойно отозвалась девушка. — На Ивана обиделись?
Она взяла со стола одну из анкет и протянула Густаву.
— Идите в ту комнату, подумайте. Писать сами можете?.. Вот и хорошо.
Густав недоуменно качнул плечами, вертя в руках бумагу. От него требовалось лишь указать год рождения, воинское звание и домашний адрес в Германии. Но и этого писать не хотелось, потому что от подобных бумаг пахло протоколом, а от протоколов — допросами. К чему все это?
Он возвратился в большую комнату, где заметно прибавилось людей. Партизаны запросто вваливались сюда, заходили к командиру, наскоро о чем-то переговаривались-с ним. Иные спорили и даже кричали там, называли командира, кто старшим лейтенантом, кто Петром Семеновичем. Потом исчезали, достав огонька для цигарки прямо из плиты. Густав в который раз отмечал, что на пленных они попросту не обращали внимания, словно их не было здесь.
Наконец Сапронов громко и требовательно попросил всех партизан удалиться. В приемной остались трое пленных с часовым Митькой. Сапронов позвал Валю к командиру. Почти сразу повели туда солдата с губной гармоникой.
Густав заволновался, стал прислушиваться к разговору за дощатой перегородкой. Унтер тоже приподнял голову, медленно повел глазами в сторону командирской комнаты, слабо улыбнулся Густаву.
— Откуда, приятель? — стараясь быть веселее, спросил Густав.
— Обращайтесь ко мне по форме! — вдруг оборвал его унтер-офицер. Он поправил свалявшийся на плече погон со знаками отличия.
За дверью между тем продолжалась беседа «музыкального» солдата с Данчиковым.
— Меня зовут Ганс Хайнеман... Из Гамбурга... В армии служу семь лет... — четко доложил солдат.
Затем наступила пауза. Ганс бормотал что-то невнятное. Партизаны смеялись.
— Вспомните, — настойчиво добивалась переводчица, — кто был ваш отец: рабочий, служащий конторы, рыбак или, может быть, фермер?..
— Я вас хорошо понял, фрейлейн, — перебил Валю Ганс Хайнеман. — Запишите: из солдат.
— Не может быть, Ганс, — разъяснила Валя. — Вы послушайте меня внимательно: до того, как стать солдатом, ваш отец торговал в лавке, был мясником или, может, ловил рыбу — понимаете?
— При чем тут рыба? — повысил голос Ганс. — Мой отец был заслуженным человеком. Имел Железный крест от кайзера. В нашей семье никогда не ели рыбу.
— Ах, боже мой! — воскликнула девушка по-русски. И затем на немецком языке принималась опять перечислять профессии. Ганс что-либо добавить к сказанному ничего не мог, кроме того, что отец погиб на фронте в девятьсот пятнадцатом году, а он, Ганс, родился в четырнадцатом.
Кроме службы в армии покойный Фридрих Хайнеман не оставил сыну никаких воспоминаний о себе. Отца решили оставить в покое.
— Мать работала где-нибудь?
— Как обычно — у плиты и ванны с бельем...
— Ну хорошо. Может, у тебя старшие братья были, содержали вас с матерью и тебя обучали какому-нибудь ремеслу? — допытывался Данчиков, не получив вразумительного ответа о матери.
Оказалось, что у Ганса Хайнемана было даже два брата: Христиан и Людвиг. Один погиб под Гвадалахарой в фашистских войсках в 1936 году, второй пропал без вести в горах Югославии полгода назад...
Было что-то жуткое в спокойных словах Ганса о гибели на войне отца, двух братьев. Данчиков презрительно и грустно смотрел в лицо солдата. Хотелось сказать: «Неужели ты, Ганс, последний из мужчин рода Хайнеманов, не задумался над своей судьбой? Что ты ищешь и что можешь найти, кроме смерти, на полях России!..» Но гордое лицо солдата, вспотевшее больше от непонятных ему вопросов, чем от бренности выпавшей Хайнеманам судьбы, не отражало душевных мук Ганса.
Данчиков обернулся к Вале:
— То ли он разыгрывает нас, то ли ты не смогла ему как следует втолковать, чего мы добиваемся. Это вовсе не допрос. Нам захотелось о нем знать немного больше, чем имя и солдатский номер.
Командир встал, приоткрыл дверь:
— А ну-ка, Митя!.. Или ты, Сапронов. Позовите одного-двух бойцов с улицы, которые окажутся поблизости.
Хайнеману разрешили сесть. Пришли Халетов и Бражников. Последний был из здешних жителей, огородник артели, — широкоскулый, неразговорчивый мужчина с добрыми черными глазами. Он доложил о прибытии и стал в дверях, опершись плечом о притолоку.
Увидев, что Данчиков задумался о чем-то, Сапронов по собственной инициативе продолжал беседу.
— Вот смотри сюда. Я — электромонтер, то есть рабочий. Он, — Сапронов показал на Бражникова, — агроном, а этот, Халетов — пас овец, сеял хлеб — крестьянин. Пришла война, мы стали солдатами. Выгоним вас — и снова всяк за свое дело. Ясно?
Валя перевела Гансу слова Сапронова.
Но Ганс обиженно твердил, что это ему все ясно, так же ясно, как и то, что его происхождение — из семьи солдата.
— А почему вы, собственно, удивляетесь? — спросил Данчиков своих товарищей, словно ему давно была знакома разгадка такого поведения Ганса Хайнемана. — Немцы — военизированная нация. Почти пятьдесят лет у них продолжается казарменный образ жизни. В армии служат, как видите, семьями. Из поколения в поколение. Стоит ли удивляться, что возникло целое сословие военных?..
Следующим подняли унтер-офицера. Он одернул мундир, поправил пряжку поясного ремня, подтянул голенища сапог и даже обмахнул носки полой валявшейся в углу шубы. Потом долго возился, пристраивая брюки на пряжках. Партизаны срезали у пленных пуговицы с брюк. Их приходилось поддерживать руками. Именно сейчас унтеру почему-то не хотелось держать руки в карманах.
Густаву еще тогда, когда унтер начальственно зыркнул на него, показалось, что во взгляде его было что-то натянутое. Словно унтер позировал невидимому фотографу.
Унтер выпятил грудь и высоко задрал подбородок, глядя неподвижными глазами в верхний угол комнаты. Таким он и прошел в командирскую комнату. Почти сразу оттуда ушли Бражников и Халетов.
Освободившись, Ганс Хайнеман попросил знаком у Мити гармонику и, как ни в чем не бывало, затянул мелодию:
Унд дайне либе
Шпрахен лайс
Фон либе гайс,
Дас кайне вайс,
Вас айнер вайс,
Нур их...
У песни был неожиданный конец.
Минут через пять за дверью командирской комнаты послышалось чье-то несдержанное восклицание и смех. Оттуда выскочил багровый от напряжения Сапронов. Он зажимал рот ладонью, гася подступивший к горлу смех.
— Мить, а Мить, — позвал он, став вполуоборот к часовому. — Ты видел когда-нибудь... короля?
— На картах игральных есть короли, и в шахматах у Маркиана, — не растерялся паренек.
Он скуки ради отсоединил от автомата рожок, перетирал патроны.
— А хочешь, я тебе живого короля покажу сейчас? — не унимался Сапронов.
— Вот чудак, где же ты его возьмешь?
Сапронов будто ждал такого ответа.
— Где, где? — передразнил он паренька. — Ты думаешь, у Данчикова — унтер? Это ж наместник германского бога попался.
— Из самого Берлина? — доверчиво изумился подросток. — Может, это Гитлер?
Митька проворно сгреб со стола патроны, стал заталкивать их в металлический рожок, всем своим видом обнаруживая желание взглянуть на унтера-короля.
Разговора с Митькой Сапронову показалось недостаточно. Шумливый, веселый, он выбежал на крыльцо:
— Эй, ребята! Идите-ка сюда швыдче! Короля живого словили!
С десяток партизан, перешучиваясь с Сапроновым, ввалились в прихожую. Один из них в дубленом полушубке, с окровавленной повязкой на голове, опустился на скамью рядом с Густавом, широко облокотясь и время от времени, очевидно уже по привычке, поправляя повязку. Остальные расположились кто где, большинство стоя.
Данчиков вывел унтер-офицера на середину комнаты.
Тут только Густав смог как следует разглядеть человека, в руках которого оказалась его судьба и судьба остальных пленных. Красный офицер был невысок, чуть пониже Сапронова ростом и несколько спокойнее своего ординарца в движениях. Коричневые глаза его не по-восточному круглы. Когда Данчиков сердился, щелки глаз сужались, брови вздрагивали в такт произносимым словам. В отличие от своих подчиненных, офицер носил знаки различия — три кубика. Данчиков холодно посмотрел на Густава и объявил, подталкивая унтера в спину: