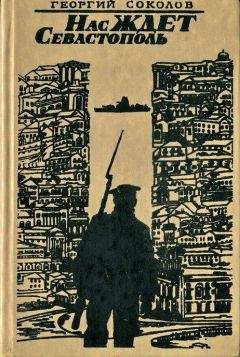Александр Гончар - Знаменосцы
Антоныч смотрел на Черныша выжидающе.
— …Чтоб победили и вернулись возводить мачты, — ответил Черныш, как школьник.
— Пять, — поставил отметку Иван Антонович.
Кармазин строго осуждал тех офицеров, которые иногда ради внешнего блеска легкомысленно относились к себе или к своим подчиненным. «Неоправданные людские потери — самый большой позор для командира», — говорил старший лейтенант. В этом отношении взгляды Антоныча целиком сходились со взглядами комбата. Всегда уравновешенный и терпеливый, капитан Чумаченко становился беспощадным, когда узнавал, что какая-то рота понесла напрасные потери.
— Ты понимаешь, что дано в твои руки государством? — пробирал он какого-нибудь чрезмерно азартного вояку. — Не коня, не машину, не станок… Шофер машину разобьет, и то его судят. А ведь это люди. Люди, понимаешь?
— Да еще какие люди! — подхватывал Антоныч. — Богатство!
Хоть в душе Антоныч оставался сугубо штатским человеком, он, однако, был влюблен в настоящего бойца-фронтовика.
— Может быть, потому, что фронтовик ежедневно встречается со смертью с глазу на глаз, — вслух размышлял Антоныч, — он лучше других узнает подлинную цену жизни. Вы заметили, что на фронте люди живут дружнее? И мне кажется, что даже процесс формирования нового сознания здесь происходит интенсивнее.
— Ого! — сказал Черныш.
— Чего ты огокаешь? Возьми, к примеру, отношение фронтовика к деньгам. Он попросту забывает их цену, ни во что не ставит. Или вспомним такое старое выражение: сделать карьеру. Это выражение я слышал тысячи раз среди нашего офицерства и всегда оно употреблялось только в ироническом смысле. Ты обратил на это внимание? Разве это случайно?
— Нет.
— Потому что на настоящего воина, по-моему, меньше всего давит та отвратительная сила, которая у нас, на политическом языке, зовется родимыми пятнами капитализма. Или, вернее сказать, он скорее сбрасывает с себя этот груз, освобождается от этих пятен, ибо воин меньше других захвачен узкими, личными интересами. Он постоянно, днем и ночью, живет, так сказать, идейной общественной жизнью.
— Наэлектризованный, — сказал капитан, — током высокого прекрасного напряжения.
— Пусть так…
Иван Антонович не договорил. Во дворе разорвался тяжелый снаряд. С минуту все молчали, потом Черныш порывисто поднялся:
— Пойду взгляну, не пришибло ли часового.
Капитан и Антоныч тоже встали. Переступая через бойцов, спавших вповалку, они вышли во двор. В воздухе пахло пороховыми газами.
— Пропуск! — послышался голос Романа Блаженно.
— Не узнаете, Блаженно?
— А спросить обязан.
— Правильно.
Где-то над головами мурлыкали «кукурузники», неутомимые друзья пехотинцев. Они когда-то бомбили фрицев в курских и украинских кукурузных полях и там получили от бойцов кличку «кукурузников». Это солдатское прозвище они пронесли до венгерской столицы, где нет уже под ними никакой кукурузы, а высятся лишь каменные громады. «Кукурузники» ходят над ними спокойно и размеренно, не нервничая, как «мессеры», ходят над самыми крышами ночного города, нащупывая каждый купол, готический шпиль, вспышку на батарее…
За высокой стеной встают малиновые горы. Пылает Буда на том берегу. Горит и здесь, в этом квартале. Ощерились багровые ребра балок. Над иным зданием дым поднимался столбом, курчавясь вершиной, как дуб. Как тот песенный дуб, который разрастался, не боясь мороза. С одной стороны он был зловеще багровым. Большая часть кудрявой кроны оставалась в тени и только угадывалась. Но вот где-то внизу забил другой световой источник, гигантская крона обозначилась вся и замигала бледнозелеными светлячками. От этого миганья, частого, как далекие зарницы в степи, казалось, что дуб покачивается. Он расплывается, растет, превращается в тучу. И всё мигает, мигает. От этого миганья кажется, что и все небо и вся земля качаются.
— Не холодно, Блаженко? — спрашивает старший лейтенант.
— Ничего.
Боец стоит, положив на автомат руки в лайковых перчатках, которые лопнули по швам.
В ячейках чернеют минометы. Они сейчас напоминают длинношеих лисиц, которые, подняв передние лапы, присели на хвосты в напряженном ожидании. У минометов спят бойцы, накрывшись плащ-палатками и согреваясь собственным дыханием. Иван Антонович обходит их, присвечивает фонариком. Палатки поседели от мороза.
Где-то на левом фланге взметнулись в небо упругие хвостатые кометы «катюш». Полетели яркими, огненными трассами через темный Дунай на Буду. Через минуту донесся грохот, словно ударил молодой весенний гром.
— Звучно, — говорит капитан Чумаченко. — На хорошую погоду. Так и заводские гудки у нас над Днепром: на дождь хрипят, а на хорошую погоду поют звучно.
XXIII
Пешт, восточная часть города, был уже почти полностью очищен от противника. Несколько тысяч кварталов остались за спинами наших бойцов. Выбивая врага от квартала к кварталу, советские войска прижали его с трех направлений к Дунаю. Немцы бешено сопротивлялись в прибрежном районе.
На той стороне Дуная в белесой мгле тонула Буда, опускаясь террасами кварталов к самому берегу. На горе был виден высокий королевский дворец. Артиллерия, установленная противником возле дворца, и ниже, под горой, обстреливала Пешт.
Полк Самиева и его соседи уже штурмовали площадь перед Парламентом. Самоходные пушки и танки, вырвавшись из засад, где они еще с ночи, притаившись, ждали сигнала атаки, сейчас прочесывали всю площадь до самого берега. Прикрываемые ими штурмовые группы шаг за шагом приближались к Парламенту.
Минометчики Кармазина прокладывали дорогу автоматчикам своего батальона, наступавшим правее Парламента через небольшой сквер. У них было задание выйти к набережной.
Среди памятников, фонтанов, железных оград перебегали, отстреливаясь, немцы. Штурмовые группы в гранатном бою вытеснили их из сквера, и немцы вели теперь огонь из-за колонн Парламента, из-за гранитных перил набережной.
Энергичный, радостный бой нарастал. Как лесное птичье царство, стрекотали автоматчики среди каменных громад. И минометы били сегодня как-то особенно звонко, как в литавры.
Минометчики за это утро уже несколько раз меняли позицию, маневрируя в фарватере штурмовых групп. Сейчас горячие минометы остывали в самом сквере. Их трубы еще дымились, как будто дышали паром на морозе.
— Дожили, — весело выкрикивал Иван Антонович. — Дожили, что бить больше некуда!
Действительно, штурмовые группы уже сблизились с противником, так, что мины могли зацепить своих. Бить по вражескому тылу? Но тылом у врага был Дунай.
Дунай, Дунай! Так вот ты какой! Не голубой, не вальсовый! Темный, как туча! Широкое смертельное поле, гибельная нейтральная зона. Искрошенный снарядами лед трется о берега. Клокочут темные глубины, пенится вода, как на подводном камне…. Не голубой, не вальсовый!
Из Буды немецкие пушки все чаще бьют по Дунаю. Вражеские артиллеристы уже видят в бинокли своих, припертых к берегу. Сбившись за углом Парламента, наскоро перегруппировавшись, немцы снова идут в контратаку. Удержаться хотя б до ночи!.. Свинцовый град сечет воздух. Заскрежетала бронза монументов. Трассирующие пули пронизали сквер.
Черныш, выглядывая из-за пьедестала, видит, как на штурмовиков лейтенанта Барсова кинулись десятки немцев.
— Гвардии старший лейтенант! — почти кричит Черныш командиру роты. — Разрешите поддержать Барсова! Наседают…
Пятна темного румянца на щеках Черныша разгораются, словно под солнцем.
— Разрешите, гвардии старший лейтенант! — кричат бойцы.
Антоныч разрешает первому взводу.
Черныш взмахнул автоматом:
— Первый взвод! За мной!
Как стая тяжелых птиц, у самой земли летели бойцы, разворачиваясь. С разбега Черныш наскочил на какого-то бойца-пластуна. Он полз, волоча автомат, оставляя на снегу кровавый след. След был яркий, пылающий.
— Где санпункт? — поднял голову боец. Он был без ватника, в одной гимнастерке, заправленной в штаны. — Где санпункт?
— Там! — Черныш показал рукой в тыл, не останавливаясь.
— Давайте, самоварники, — крикнул раненый вслед минометчикам. — За Парламентом их набилось, как червей. Давайте, браты…
Парламент, высокий, темнокоричневого цвета, с готическими шпилями по бокам и куполом в центре, мрачно смотрел на бойцов. Он как будто удалялся от них, опускался в Дунай. Он был похож на огромный средневековый собор.
Без крика падали раненые. Минометчики, передвигаясь короткими перебежками, уже соединились со штурмовиками лейтенанта Барсова.
— Евгений, ты здесь? — услыхал Черныш голос откуда-то сбоку. Оглянувшись, он увидел Барсова, молодого, разгоряченного боем офицера, с автоматом в руке. Барсов, не глядя на Черныша, прицелился куда-то из-за каменной тумбы, дал очередь и прыгнул через ограду к перилам набережной. Знакомый Чернышу парторг четвертой роты, пожилой, высокий сержант, поднялся в полный рост, крикнул «ура» и повалился, раненый, на талый снег. Но «ура» не погасло, оно вспыхнуло и покатилось вдоль берега, подхваченное многими голосами. Наверное, его услышали и на той стороне широкого Дуная.