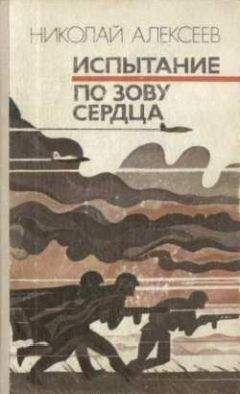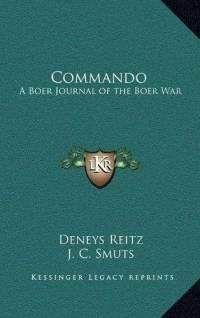Геннадий Семенихин - Расплата
Теперь он с горечью думал: «Вот и привлекут его немцы на свою сторону за горсть сделанных из эрзац-металла пфеннигов. Как хорошо, что этот выскочка не уселся в директорское кресло!»
Ускорив шаги, Александр Сергеевич вышел на скрещение Почтовой улицы и Подтелковского проспекта. В городе это было одно из людных мест. Слева городской почтамт, со второго этажа которого и днем и вечером доносились, бывало, голоса телефонисток междугородной. «Алло, алло, дайте Киев, телефон номер…» или «Москва, третья кабина, кто просил Москву, идите в третью кабину».
Сейчас на втором этаже было пустынно и мрачно, как в склепе. Да и куда звонить, если вся донская земля теперь стонала от разрывающихся авиабомб и снарядов, если на сотни километров, что на север, что на юг, гремят канонады и невозможно пробиться сквозь них полным нежности голосам влюбленных или сугубо деловым фразам других абонентов. А вот госпиталь, что напротив телеграфа, тот мало изменился. Эвакуировали оттуда красноармейцев командиров, но койки стали прибежищем раненых немцев. Судьба словно поиздевалась над оккупантами, заставив страдать, корчиться на операционных столах, а то и умирать в палатах, откуда так недавно эвакуировали красноармейцев, защитников города, едва успевших покинуть его с последними отступающими подразделениями.
В этом месте широкий Подтелковский проспект рассекала надвое живописная аллея, протянувшаяся от собора до завода Никольского. По обе ее стороны стояли многолетние деревья в огненном осеннем убранстве, как будто хозяйка земли природа ни на что не хотела обращать внимания: ни на стоны погибающих на поле боя, ни на гул канонад и бомбежек, ни на сырые бугорки наспех вырытых солдатских могил. Залюбовавшись красотой деревьев, Якушев подумал, что для них нет тех бед, которые подстерегают человека в старости. Пока живет дерево, живет и его красота. И нет ей никакого дела до того, сколько самому дереву лет.
Накатывался очередной приступ астмы, и Александр Сергеевич, прочно опираясь на палку, долго стоял на углу Почтовой и Подтелковского в надежде, что кашель, может быть, не разразится. И он действительно на этот раз пощадил старика, будто устыдившись, что может подвергнуть мукам человека, залюбовавшегося неувядаемыми красками осени. Якушев вздохнул, стукнул палкой об асфальт, а потом с видом победителя стал переходить проспект.
Дойдя до начала рассекавшей его аллеи, он снова остановился. Здесь высилась серая цементная тумба, на прочные бока которой наклеивались афиши и объявления. Она была до того крепкой, что думалось, будто стоит со дня основания Новочеркасска. Кто только не оставлял следов о своем пребывании в городе, каких только объявлений не клеилось на эту тумбу! На обрывках афиш можно было увидеть и стройные ножки балерин, исполнявших опереточный капкан, и черные длинные фраки гипнотизеров, обманывавших своими манипуляциями доверчивую публику, и объявления санитарной эпидемической станции, и призывы Госстраха к гражданам уверовать в то, что страховка приносит не только колоссальную выгоду, но и приводит чуть ли по к бессмертию, и суровые объявления военного коменданта германской армии, почти каждый параграф которых заканчивался жутким словом «расстрел». А читались эти параграфы примерно так: «За появление на городских улицах и площадях в ночное время после установленного комендантом часа без соответствующего на то разрешения — расстрел. За несдачу огнестрельного оружия — расстрел. За укрывательство советских военнопленных, незаконно покинувших лагеря, где они были размещены, — расстрел. За связь с партизанами — расстрел. За покушение на жизнь любого военнослужащего германской армии — расстрел». Оно было черным и жирным, это слово.
Александру Сергеевичу давно уже приелась вся эта истерия немецкого коменданта, и он обычно проходил мимо сероцементной тумбы совершенно равнодушно. И только на этот раз задержался, и трудно было сказать почему. То ли оттого, что просто солнце его разморило и захотелось сделать очередную передышку, то ли потому, что надо было посмотреть, не развязался ли шнурок на левом ботинке, то ли по другой какой надобности. Только он, дойдя до афишной тумбы, остановился и поднял на нее блеклый взгляд своих усталых, почти равнодушных глаз. И внезапно замер на месте. Его ноги в желтых ботинках со стоптанными каблуками словно приросли к гравию, покрывающему аллею. С сероцементной тумбы, с почти квадратного листа бумаги, наклеенного на нее, на Якушева смотрело страшно знакомое лицо человека с вьющимися, слегка всклокоченными черными волосами. Над решительно сжатыми губами была небольшая щеточка таких же черных усов. Могло подуматься, прежде чем сделать снимок, фотограф чем-то ему сильно досадил. Маленький почти треугольный шрам над верхней губой довершал сходство.
Нет, это не был ни гипнотизер, ни исполнитель модных неаполитанских песен, ни заезжий тенор. Гордо выпрямленная голова этого человека сидела на короткой прочной шее. Пунктиром была нарисована веревка, наброшенная на нее, и черными кричащими буквами, с которых падали красные капли крови, написано:
«За голову этого человека тому, кто сообщит о месте его пребывания в комендатуру, германское командование обещает выдать одну тысячу рейхсмарок».
В глазах сфотографированного не было ни злобы, на ярости, они открыто, с добротой и доверчивостью глядели с наклеенного на тумбу листа бумаги в упор на подошедшего Александра Сергеевича. А у того неожиданно подкосились ноги, и он почувствовал на ресницах предательскую влагу.
— Мишенька… неужели это ты? — громко вырвалось у него.
— Вы, кажется, что-то сказали? — внезапно приблизился к нему словно выросший из-под земли человек в пепельного цвета пыльнике, с непокрытой головой и узким, желтоватым, как у больного печенью, лицом.
Якушев сразу все понял и сдвинулся в сторону, всем своим видом показывая, что вовсе не собирался долго разглядывать афишу.
— Вам померещилось, я ничего не сказал, — ответил он сухо.
— А-а! — разочарованно протянул незнакомец и отошел.
А старый педагог, позабыв о всей неосторожности своего поступка, снова приблизился к желтому листку и, оглянувшись по сторонам и убедившись, что теперь он в полном одиночестве, трясущимися губами прочел короткий текст:
«На этом плакате вы видите опасного преступника подпольщика Михаила Зубкова, действующего под кличкой „Черный“. Такие, как он, пытаются посеять рознь между донскими казаками и отважными воинами фюрера Гитлера, освободившими донской край от ига коммунизма. Всякий, знающий о местопребывании Зубкова Михаила Николаевича, должен сообщить об этом в гестапо или комендатуру. Исполнив свой гражданский долг, тот получит указанное вознаграждение не в оккупационных марках, а в марках рейха».
Александр Сергеевич снял пенсне, протер запотевшие стекла и, понимая, что лучше здесь не оставаться, побрел дальше по Почтовой улице. Палка растерянно стучала по мостовой, когда он переходил вторую половину Подтелковского проспекта, отделенную от первой аллеей, на которой стояла эта сероцементная тумба.
— Мишенька, — повторял он пересохшими губами. — Мишенька! Так вот на что ты решился!
Старик возвращался домой со смешанным чувством гордости за своего ученика и страха за его судьбу.
В тот же самый день, только несколько часов позднее, оккупированный Новочеркасск был поражен еще одним неожиданным событием. По сравнительно малолюдной в этот вечерний час центральной Московской улице бежал босиком человек, далеко уже не того мальчишеского возраста, в котором это можно было бы проделать, не вызывая удивления прохожих. Бежал под трели полицейских свистков и отчаянный топот преследователей. Трое рослых парней в казачьей форме уже вот-вот готовились его настигнуть, когда убегающий неожиданно вскочил в одну из дворовых подворотен и ловко запутал свои следы.
Перемахнув в глубине двора через крепко сбитый забор, он, по всей видимости отлично знавший центральную часть Новочеркасска, исчез в одном из незакрытых сараев. Преследователи, у которых, на беду, не было с собой собаки-ищейки, тяжело дыша, отчаянно переругиваясь между собой и поправляя на рукавах повязки служителей полиции, стуча сапогами, покинули двор.
Прошло несколько часов, и, когда стало изрядно темнеть, за какие-то десятки минут до наступления комендантского часа преследуемый вышел из этого двора уже совсем на другую улицу. Серый, ничем не примечательный его костюм был застегнут на все пуговицы, узел темно-синего, в мелкий горошек галстука тщательно завязан, на голове сидела фуражка-капитанка, с низко надвинутым на глаза козырьком.
Выйдя на параллельную Московской Почтовую улицу, он смешался с вечерними пешеходами и медленной расслабленной походкой, словно подчеркивая свое полное спокойствие и равнодушие ко всему окружающему, зашагал вниз по направлению к почтамту. Он двигался примерно по тому же самому пути, что и Якушев несколько часов назад. У двухэтажного дома, капитально сложенного из красного кирпича, про который в Новочеркасске говорили «износу нет», он остановился и, спокойно оглядевшись по сторонам, перешагнул деревянный порог зеленой калитки. Очутившись в совершенно лысом от растительности дворе, где не было ни одной клумбы с цветами и ни одной грядки, как это бывает у тех домов, где обитает много жильцов, не заинтересованных в украшении бытия своего, и из которых никто не желает либо не имеет времени покопаться на клумбе, полить деревцо или высадить цветы, человек этот быстро скрылся в дальнем подъезде. Там, сняв фуражку, он стал медленно подниматься по лестнице с выбоинами на цементных ступенях. На втором этаже у добротно, обитой черным дерматином двери остановился и, мельком взглянув на номер квартиры, решительно нажал кнопку звонка. После длительного молчания за дверью раздались шаркающие шаги, звяк сбрасываемой цепочки, и на пороге появилась фигура пожилого человека в напахнутом выцветшем банном махровом халате, чуть перекошенная от того, что корсет заставлял его держать правое плечо выше левого. Жалкие пряди оставшихся волос прикрывали розоватую лысинку. Дрогнули растянутые в изумлении тонкие бескровные губы: