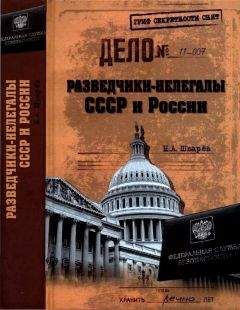Даниил Гранин - Это мы, Господи. Повести и рассказы писателей-фронтовиков
— Пуля — что?! Осколок — вот это калечит!
— Осколок, оно, конечно.
— На четверть разворотит. Да еще доктора на две четверти располосуют.
— Ага. Рассечение называется. Я знаю. Уже четвертый раз попадает.
— Ну. Вот тогда повоешь. На квартал, не меньше.
А откуда-то неподалеку из шума и говора пробивается тихий, рассудительный голос человека, у которого, наверное, наболело на душе, ноет. И он делится, но не со всеми, а, видно, с одним, с тем, кто поймет и не высмеет:
— Понимаешь, пришел. А она возле меня увивается… Говорю: «Как живешь, Глафира?..» Так спокойна, но, гляжу, мельтешит у нее что-то в глазах. А знаешь, люди мне уже кое-что шепнули… «Стерва, — говорю, — кому изменяешь?..» Понятное дело, ремень, он хоть и брезентовый, но твердый… Ну, завязал вещмешок — и на станцию… Капитан говорит: «Ты что, Сокольников, досрочно?» — «Досрочно, — говорю, — желаю быстрее врагов бить…» — «Молодец, — говорит, — патриот. Берите, товарищи, пример с рядового Сокольникова».
Накинув на плечи полушубок, по ногам к нам пробирается Катя.
— А ну, подвинься.
— Пожалуйста, сестра, — говорит Юрка, с готовностью давая ей место у стены.
Катя молча садится, прикрыв колени полой полушубка. На койке с хмельным удовлетворением на лице ощеривается сержант:
— Ганс, ком!
Немец выдрессированно вскакивает с пола.
— Ты за кого? А ну скажи? Чтоб все слышали!
Пленный старается понять, но это ему не удается, и он мучительно моргает глазами. Сержант старательно разъясняет:
— Ну кто ты? Буржуй? Рабочий? Фашист?
— Их бин дейч лерер! — наконец догадавшись, отвечает пленный.
Но бойцы вряд ли понимают его и вопросительно глядят из углов, со скамьи, с пола. Они пока что отвоевались и теперь добрые. В глазах удовлетворение и покой. И хотя белеют в сумраке забинтованные руки, ноги, головы, но это теперь не беда, а скорее удача, ибо главное — живы. И если все же болит где-то, то разве в том вина этого вот покорного, услужливого и даже пугливого немца, который сам сдался в плен? Немец, наверно, чувствует это и спокойно смотрит, как из угла пробирается к нему низенький в обмотках пехотинец с рябоватым от оспы лицом. Под накинутой шинелью у него толсто забинтованное плечо. Это, кажется, тот, что беспокоился, налили ли немцу выпить.
— Слушай, Фриц! А у тебя дети есть? — спрашивает он.
Немец не понимает.
— Ну дети, кумекаешь? Пацаны, вот такие? — ладонью он отмеривает высоту вровень с поясом.
— Киндер? — догадывается немец и торопливо отвечает: — Цвай киндер. Два ребьенка.
— И у меня двое детей! — радостно удивляется пехотинец, и его рябоватое лицо сияет в простодушном восторге.
И тогда из-под шинели в углу поднимается темная большая фигура. Не разбираясь, что под ногами, на кого-то наступив и пошатнувшись, этот человек бросается к немцу.
— Врешь, гад!
Большой и неуклюжий, в промазученной телогрейке, он дрожащими руками выхватывает из кирзовой кобуры наган и, взводя, щелкает курком. Немец отступает на шаг, руки его инстинктивно вскидываются навстречу танкисту.
— Стой! — кричит с койки сержант.
— Ты что? — кричу я, неловко вставая из-под стены. Кто-то еще кричит. Рядом быстрее меня вскакивает Юрка. Одной рукой он хватает танкиста за локоть:
— Спокойно! Спокойно!
Сержант, вскочив с койки, заслоняет немца.
— А ну спрячь свою пушку! — властно приказывает он. — Вояка!
— Зачем… это самое… детей сиротить? — спрашивает рябоватый боец.
И тогда высокий взрывается:
— Ах, детей! Такую вашу… Его детей жалко! А моих кто жалеть будет?
Он бьет кулаком в свою грудь. На крупном костистом лице его ярость, губы дрожат, глаза ушли под лоб и не предвещают добра. Но все же хлопцы не дадут ему здесь учинить убийство. За сержантом, заметно испугавшись, стоит немец.
— Ты чего разошелся, как Гитлер? — говорит бойцу сержант и кладет руку на его плечо. — Ты же русский. Русский, да? Ну так чего ж ты, как бандюга, за пушку хватаешься? Он же пленный…
В хате становится тихо. Слышно, как в углу кряхтит обгоревший летчик. Его высокий сосед еще раз наделяет немца ненавистным взглядом и неохотно возвращается к товарищу. Кажется, конфликт кое-как улажен. Сержант, прежде чем залезть на кровать, легонько толкает немца:
— Не дрейфь, Гансик. Давай трави дальше.
Немец нерешительно отступает на свободное место.
— Их нике наци. Их бин ляндлерер, — говорит он поникшим голосом.
Я снова опускаюсь на солому возле стены. Рядом садится Юрка. Катя, кутаясь в полушубок, говорит:
— Не верю я ему.
— Ну почему? — не соглашается Юрка. — Бывают и среди них люди.
— Ирод он, а не человек.
— Почему так?
— Так.
— Вот те и раз! Это что такое? — вдруг удивляется сержант. В его руке колпачок от Юркиной фляжки, в который он наливал соседу по койке. Спирт в колпачке остался нетронутым.
— Эй, землячок, ты что махлюешь?
Он тихонько толкает раненого в плечо, еще недавно тот стонал и метался, а теперь и не пошевелится.
— Эй! — сержант встревоженно присматривается к нему. — Да он уже готов!
К кровати подходят санитары, встает Катя. Они долго щупают у бойца пульс.
— Фу ты, холера! — не сдерживает досаду сержант. — И сто грамм не допил, чудак.
Санитары в молчаливой угрюмости за полы шинели стаскивают труп с койки и, напустив холоду, выносят его из хаты. Им помогает немец, который затем, не зная, куда себя девать, жмется к порогу. Но его скоро замечает сержант.
— Ганс, ком сюда. Место есть. Ну что ж, помянем земляка, — говорит он и лихо опрокидывает колпачок.
Немец учтиво садится на койку:
— На здоровье!
Сержант крякает от удовольствия и хлопает немца по плечу:
— Правильно, Ганс. А ты где по-русски наловчился?
— Руссише шпрехен? О, биль фаль, — скромно отвечает немец.
Фаль! Будто знакомое слово, только я уж не припомню, что оно означает. В голове моей все устало путается, и я зову друга:
— Юрка! А, Юрка!
Юрка же, прислонившись к стене, молчит. Я заглядываю в его затененное лицо: вот тебе и на — он уже уснул.
Глава четырнадцатая
Юрка устало спит, уронив на грудь светлую голову. Здоровой рукой он осторожно поддерживает раненую и тихо посапывает в нос — по-домашнему мирно и сладко. Кругом успокаиваются, устраиваясь на ночь, раненые. Шум в хате постепенно утихает. Густо, не продохнуть, воняет шинелями, потом, бинтами. У меня сильнее начинает болеть нога. Уснуть я уже не могу и молча гляжу на моего сонного друга.
Эх, Юрка, Юрка! В самом деле, как это здорово, что мы вот так нежданно-негаданно встретились сегодня, а завтра, возможно, сядем в санитарную машину и рванем в тыл — подальше от танков, от огня и бесконечных фронтовых тревог. А там — койка, чистое белье, покой и сон, сон… Может, нам повезет еще больше и мы попадем в один госпиталь. Вот было бы счастье.
Так же вот полтора года назад, совсем случайно и еще не зная друг друга, мы попали в один строй в училище и оказались в одной роте, в одном взводе и даже в одном отделении. Год мы проспали на нарах рядом, и почти каждую ночь, под утро, он нетерпеливо толкал меня в бок за мою дурную привычку храпеть. Было нам очень несладко начинать службу, по существу, подростками, вчерашними школьниками, вдруг оторванными от книжной науки и брошенными в беспощадную строгость военного училища с его уплотненной учебой, бессонными нарядами, дежурством, изнурительной усталостью оборонительных работ. Постоянно хотелось спать, есть, отдохнуть, а взводные, из нашего же брата — курсантов предыдущих выпусков, сами не знавшие тут поблажек, не баловали ими и нас. Говорили: так нужно, для того чтобы фронт потом показался раем после того предельного напряжения, в котором нас держали в училище. В самом деле, десять часов занятий при полной выкладке, марши, учения, земляные работы на окраинах города (строился внешний оборонительный рубеж Саратова), ночью — дежурства на самолетостроительном и крекинге, которые бомбили немцы. Там, еще до фронта, мы познали войну, огонь и острую скорбь по друзьям, растерзанным бомбами или заживо сгоревшим в огромных нефтяных пожарах на крекинг-заводе.
Это было очень даже нелегко, особенно если учесть сиротство многих из нас, родные места которых были заняты врагом. А немцы все перли и перли на восток, на Сталинград, Кавказ, стояли неподалеку от Москвы. И если все же нашлось такое, что давало нам душевную силу выдержать, то в нем немалую долю составило чувство товарищества с его неизменным юмором, добротой, искренностью. Все, оказывается, можно пережить, если у тебя есть друг, с которым многое делится пополам. Тогда все заботы и печали уменьшаются ровно вдвое, а радость — странное дело — вдвое увеличивается. И каким бы он ни был, твой друг, он становится второй половиной тебя самого и ты уже не можешь представить себя отдельно от него. Одним из таких друзей был для меня Юрка Стрелков.