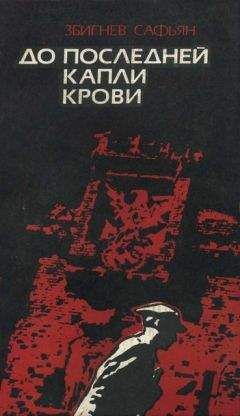Збигнев Сафьян - До последней крови
Радван стоял на правом фланге своей роты. Через минуту он примет, повторно, военную присягу… Нарушил ли первую? Или попросту повторяет ту, первую, но немного иными словами? Это верно! Есть дивизия… И то, что четырнадцать тысяч польских парней стоят с оружием, — важнее всего. «Не знаю, осудил бы меня Верховный?» Когда он подумал о Сикорском, вновь защемило сердце, поручник почувствовал боль, которую пережил, узнав о гибралтарской катастрофе. Репродукторы передали эту страшную весть. Тогда Радван пошел на берег Оки, ничего не замечая и ничего не слыша…
Помнил генерала в самолете, руководившего эвакуацией из Франции остатков польских войск, и его слова: «Исполним до конца наш солдатский долг», то, как прибыл к нему в лагерь Коеткидан. «Ты очень похож на своего отца». Потом в самолете по пути в Куйбышев он увидел в его глазах озабоченность судьбой Польши. «Изменил ли я Сикорскому?» — думал Радван; беспокойство и боль усиливались, он не мог с ними справиться. Правильным ли было решение остаться здесь? А что было делать? Повиновение Верховному является первоочередной обязанностью. Но бывает, когда перестаешь быть послушным…
Поручник ходил по берегу Оки. Недалеко отдыхали солдаты, он услышал слова песни: «Белый орел над нами плывет, бело-красное наше знамя на поле славы зовет, мы, первая дивизия, — вперед…» «Вечно польское», — подумалось ему. Когда на следующий день дивизионный ксендз майор Кубш проводил богослужение по случаю гибели Сикорского, он, Радван, искал на лицах своих друзей переживания и боль, которую сам испытывал. Что думает полковник Валицкий? Лицо у него как окаменело, казалось, он не видит ни алтаря, ни ксендза. Вспоминает? Конечно, вспоминает, но думает ли, как он, Радван, о своем праве поступить вопреки приказу Верховного… А Вихерский?
Нет, не мог бы об этом говорить даже с Вихерским, ни с кем… Надо было сделать то, что сделал. Находятся здесь помимо воли Сикорского, но воздают ему честь и, только иначе, служат тем же идеям, которым служил Верховный…
Радван посмотрел на часы. Оставалось менее двадцати минут до начала торжеств. Штабные офицеры проверяли в подразделениях, все ли на положенных местах… Заметил Павлика и опять почувствовал боль, подумав об Ане. Не обменялись ни словом на эту тему. Павлик умел скрывать личное, будто он существовал только как инструктор отделения политико-воспитательной работы… А Радван не хотел спрашивать. Если Аня знает, что он здесь, то должна… Если бы любила… Скорее всего, Павлик и его сестра умели полностью подчинять себя идеям, которые исповедовали. Не мог в это верить и верил. Хотя… Вспомнил разговор с Павликом, который состоялся около месяца назад. Разговор протекал в ином характере, чем прежде… Решался вопрос с Радваном о солдате Трепко, который должен был понести наказание за участие в драке. И Павлик пришел специально просить Радвана, чтобы Трепко не наказывали. Сказал, что Трепко будет направлен в танковую часть.
— Почему? — спросил Радван.
Павлик смешался, начал сбивчиво объяснять, что знает этого парня, говорил с ним, заикался и нервничал, первый раз был таким, неофициальным… Радван отказался выполнить просьбу, могут, конечно, направить его к танкистам, но здесь, в роте, он будет наказан за нарушение дисциплины… Потом как-то видел Павлика, стоящего за деревом, недалеко от танкодрома. Танкисты тренировались в посадке, среди них, наверное, был этот Трепко…
Пришел полковник Киневич. Через минуту начнется смотр. Радван еще раз прошелся взглядом по своей роте; кажется, все в порядке. Увидел на первом фланге лицо Мажиньского. И вдруг вспомнил. Конечно! Чеся! Чеся Мажиньская… Когда Радван был у своей тетки Марыси в Варшаве, он познакомился с Чесей. Это было… осенью тридцать восьмого. Маленькая комната на улице Вильчей, фотография… Вспомнил именно эту фотографию. «Мой брат — офицер в центре обучения пехоты». Симпатичное лицо, две звездочки на погонах. Наверное, перед сентябрьскими событиями тридцать девятого года получил третью…
Уже! Прозвучала команда, маршируют знаменосец с ассистентами — солдатами с саблями. Играют гимн «Еще Польша не погибла…» Посмотрел на часы: точно десять, как запланировано. На большую площадь вышли Берлинг с Василевской. Что думает Берлинг? У него своя дивизия, а Сикорский погиб. Он будет прав и вступит в Польшу. Киневич подает команду, дивизия замерла. Солидный полковник, а сколько в нем энергии и активности! Докладывает:
— Гражданин полковник, части первой дивизии пехоты имени Тадеуша Костюшко построены для принятия присяги…
На флагштоке поднимается бело-красный флаг, Радван знает на память весь этот церемониал, вместе со всеми произносит: «Здравия желаю, гражданин полковник», когда Берлинг приветствует первый полк, а затем в тишине слушает выступление Ванды Василевской.
— Мы существуем. Везде, там, где наши воинские части, наши белые орлы — это кусочек Польши…
Первым принимает присягу командир дивизии. Он подходит к знамени и становится по стойке «смирно» перед ксендзом майором Франтишеком Кубшем, который ждет командира в церковном одеянии, с молитвенником в руках. Берлинг снимает шапку, кладет ее на левую ладонь, два пальца правой руки поднимает вверх. И повторяет за Кубшем: «Торжественно присягаю земле Польской…»
Через минуту текст присяги повторят все… Радван смотрит на трибуну, на которой стоят сейчас Берлинг и Кубш, а со стороны видит профиль Мажиньского. Солдат (капитан?) держит два пальца высоко, согласно уставу, и повторяет, как все:
«Присягаю земле Польской и народу польскому честно выполнять обязанности солдата в казармах, в походах, в боях, в каждую минуту и на каждом месте, хранить военную тайну… Присягаю беречь дружбу с Советским Союзом, который дал мне в руки оружие для совместной борьбы с общим врагом… Присягаю верность знамени своей дивизии и лозунгу отцов наших, написанному на нем: «За вашу и нашу свободу»…»
В этот день Радван решил поговорить с Мажиньским. Не вызывал его к себе, встретил после торжественного обеда возле палатки.
— Идемте со мной.
Пошли к реке, поручник сел на пенек, Мажиньскому указал место возле себя. Угостил папиросой.
— Давно я хотел с паном поговорить. — Это «пан» Мажиньского сразу насторожило. — Помню Чесю, — продолжал Радван дальше, — вспомнил как раз сегодня. Несколько раз навещал ее на улице Вильчей. Между нами ничего не было… мимолетный флирт… На этажерке стояла ваша фотография, вы были в мундире. Кстати, о Чесе не имеете никаких известий?
— Нет, — ответил Мажиньский. — Последний раз видел ее в августе. Значит, вы знаете, пан поручник?
— Да. Получили ли вы очередное воинское звание перед Сентябрем?
— Нет.
— Почему… вы так сделали, пан поручник?
— Я обязан вам объяснять? Думаю, что нам будет нелегко понять друг друга. Вы находитесь здесь по собственной воле. Я нахожусь потому, что не успел, потому, что так велела судьба… Никогда, ни тогда, когда меня поймали на румынской границе, ни потом, я не сообщал советским властям своего звания…
— Это прошлое, — сказал Радван. — Знаете, как нужны здесь офицеры. Думаю, можно будет поговорить с полковником Валицким, даже с Берлингом, и у вас не будет никаких неприятностей. Примете роту или даже батальон.
— Нет, — возразил Мажиньский.
— Почему?
— Понимаете… Конечно, я не могу заставить вас молчать, можете меня арестовать, наказать…
— Не в этом дело! Здесь есть люди, которые могут понять наше недоверие.
— Наше? — повторил немного иронически Мажиньский. — Это правда, здесь все выглядит немного по-другому, чем я себе представлял… Есть польская дивизия, сигнал трубача с башни костела Марьяцкого в Кракове [57], ксендз Франтишек Кубш, эмблема орла, немного срезанного, но орла… Однако… — заколебался он, — я не верю этим людям. Иногда они мне кажутся излишне театрализованными, чтобы быть откровенными. Не знаю, понимаете ли вы меня. Не говорят прямо… Законное правительство Польши [58] не давало своего согласия на создание этой дивизии, и я, кадровый офицер, в данной ситуации не могу командовать солдатами… Если бы я был Берлингом, то такому, как я, не доверил бы ни роты, ни батальона… В то же время, как рядовой Мажиньский, имею полное право делать с собой, что хочу…
— Вы красуетесь перед собой, — заметил Радван. — Вы знаете так же, как и я, что здесь, на этом фронте, должен быть польский солдат, потому что только отсюда ведет дорога к Польше.
— Возможно, — ответил Мажиньский, — поэтому принимаю участие с оружием в руках. Я не уверен в себе в той мере, чтобы руководить людьми и отвечать не только за себя, но и за них…
Радван вздохнул.
— Ваше мышление непоследовательно и как бы двойственно…
— Вы доложите, что я офицер? — спросил Мажиньский.