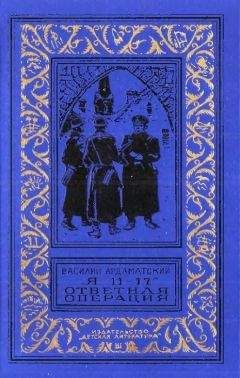Эдуард Арбенов - Берлинское кольцо
Унтерштурмфюреру показалось, что причина взволнованности — внимание. Женщина в компании мужчин. И они хмельны. Хмельны и поэтому хотят быть смелыми. Звякают стаканы под горлышками бутылок — неуверенные руки никак не могут удержать стекло на весу. Вино, должно быть, проливается, и женщина пугливо вскрикивает:
— Ай! Ай! Мое платье…
Вскрикивает и смеется. А ее утешает хрипловатый голос:
— Если фрау разрешит, я сотру пятна… Губами…
— Нет, лучше мы его выстираем… Не правда ли, фрау? Прямо сейчас, здесь…
И снова смех.
Унтерштурмфюрер чуточку задерживается около этого купе, потом, повернувшись, быстро идет в противоположный конец прохода. Он бледен, и руки его, кажется, дрожат. Одна из дверей, которую офицер минует, приоткрыта. В щель видна темнота. И больше ничего. Как бы случайно унтерштурмфюрер касается ногтями двери, звучит короткое тук-тук! Он никого не вызывает, не спрашивает разрешения войти, просто играет пальцами, как это делают слишком рассеянные или слишком сосредоточенные люди и им нужна механическая разрядка.
У соседнего, четвертого, купе офицер останавливается, напрягает слух, как бы проверяя, нет ли чужих шагов за спиной, затем быстро отдергивает дверь и так же быстро бросает себя в купе. Прямо на диван, на чей-то плед, пахнущий духами и чем-то домашним, совсем несвойственным вагону. Офицер дышит тяжело и порывисто, будто долго бежал, долго торопился и не успевал глотать вволю воздуха. Теперь успокоенный, утоляет жажду.
Проходит минута, другая. Унтерштурмфюрер включает свет и видит зеркало, четким прямоугольником торчащее в дверях и отражающее матовую лампу в потолке, черную драпировку окна, столик со стаканом уже потерявшей газ минеральной воды и покачивающейся в такт движения поезда, пачку кекса, разорванную, но не начатую, и какие-то баночки и бутылочки — женское хозяйство. Видит еще офицер в зеркале себя — очень бледного, болезненно-бледного и хмурого. Но это не задерживает его внимания, не заставляет задуматься или встревожиться — он знает, что бледен. И именно сейчас бледен. Значит, мало сил и их надо беречь.
Он откидывается на спинку дивана и какое-то время, очень короткое, отдыхает с закрытыми глазами. Кажется, дремлет под стук колес. Ритм однообразный, усыпляющий, и приходится напрягать волю, чтобы не оказаться в его власти. Рука поднимается, ощупью отыскивает кнопку звонка — вызов вагонной обслуги — и с усилием вдавливает ее. Где-то в конце коридора, за дверью, неслышимо для офицера, возникает сигнал, похожий на тревожное жужжание шмеля…
Компания веселилась. Наступил момент, когда естественное возбуждение перешло предельную черту и не вино уже воспламеняло смелость, а отчаяние и безрассудство. Они — эти заброшенные на чужбину судьбой и душевной трусостью люди, потерявшие все, кроме инстинкта самосохранения, стремились чем-нибудь заглушить боль сердца, а сердце ныло постоянно от тоски и страха перед будущим.
— Фрау! — шептал заплетающимся языком министр пропаганды — они все здесь считались министрами, или, как это значилось в списках на получение жалования, начальниками отделов Туркестанского национального комитета, штелле по-немецки. — Фрау, вы связали свою судьбу с Туркестаном, и мы этого никогда не забудем!
Министр здравоохранения, весь вечер пяливший глаза на полуобнаженные плечи «шахини» и даже пытавшийся губами стереть винное пятно с платья, перефразировал высокопарную фразу своего коллеги на собственный лад:
— Туркестанцы не забудут… Такая женщина! Такая женщина!..
Вице-президент и он же военный министр хмурился — ему не нравилась развязность «членов правительства». Рано еще превращать идею «Улуг Турана — Великого Турана» в дешевый фарс. Да и надо ли это делать вообще. Пусть сподвижников Мустафы Чокаева постигла неудача — советские войска приближаются к границам Германии и ничто, ничто не способно остановить их, конец, видимо, близок, — но это не конец идеи панисламизма, идеи «Великого Турана». Хозяин, приютивший перебежчиков, погибнет, однако есть другие хозяева, способные протянуть руку тонущим. Лично он, вице-президент, не теряет надежды и не падает духом. И постарается удержать других.
— Сын бездомной собаки! — бросил он по-тюркски министру здравоохранения. — Разве кусают господина, который тебя обласкал? Это жена отца нашего Вали Каюмхана….
Пьяный министр бесстыже ухмыльнулся и так же бесстыже посмотрел на «шахиню».
— Она жена многих, почему бы ей не быть и моей женой. Или ты сам в нее метишь?
— Где твоя совесть, шакал?
Вице-президент говорил тихо и даже спокойно, лишь глаза его взблескивали холодом и злобой.
— А кому нужна она теперь, эта совесть? — по-прежнему с ухмылкой ответил министр. — Или на том свете за нее дадут стоящую цену? Нет, уважаемый, совесть осталась там… — Он кивнул, как обычно кивали туркестанцы, куда-то вдаль, в неведомое, давно потерянное.
«Шахиня» настороженным взглядом ловила движение губ и выражение глаз споривших. Она не понимала слов, но улавливала смысл. Весь вечер мужчины лили потоки комплиментов в ее адрес, грубоватых порой и даже оскорбительных. Весь вечер бесцеремонно рассматривали единственную в купе женщину, пили за ее плечи, глаза и губы. И это тревожило Рут и волновало. Среди подчиненных мужа были такие, кто мог надеяться на благосклонность «шахини». И именно их сдерживал холодный и почти всегда хмурый вице-президент. Он словно боялся ее шага, ответного шага, оберегал от легкомысленного и шокирующего «шахиню» поступка. Наивный человек! Он не понимал, что она не так легкомысленна и не так беспечна, как они, эти туркестанцы, думают!
— Налейте вина! — попросила Рут, желая прервать разговор мужчин, грозивший перерасти в ссору.
— С удовольствием! — откликнулся министр пропаганды. Ему тоже не нравилась перепалка, возникшая между членами правительства. Прежде одного строгого слова вице-президента было достаточно для установления порядка и единомыслия, теперь даже сотни слов не в состоянии успокоить господ министров. Подданные «хана» вышли из повиновения. Он сам, министр пропаганды, уже ни во что не верил и ни на что не надеялся, но голос Баймирзы Хаита был для него по-прежнему устрашающим и заставлял повиноваться. Во всяком случае, в нужную минуту министр умел изобразить на своем крупном, угловатом лице покорность, умел рабски преданно глянуть рыбьими, навыкат глазами на вице-президента. — С удовольствием, с удовольствием! Что осталось нам от земных радостей, кроме вина…
Он разлил вино по фужерам — фужеры еще существовали в третьем рейхе. Фужеры и вино. Итальянское и французское вино, которое так любили задержавшиеся в тылу защитники Германии.
Министр здравоохранения счел нужным и здесь вставить свое, неукладывающееся в рамки приличия, дополнение:
— Кроме вина и женщин…
Шеф пропаганды не услышал этих слов — они были ему не нужны, а Баймирза услышал и зло сверкнул глазами. Впрочем, он тоже мог бы не услышать — в купе звучало слишком много голосов и слишком много слов произносилось. Говорили все. Все, кроме полковника Арипова. Он сидел у самой двери, в тени ее, и устало смотрел на веселившихся министров. Редкий гость в этой компании — национальный комитет не лежал на трассах штандартенфюрера, он ездил, в основном, вдоль линии фронта или по тылам немецких войск, где стояли гарнизоны легионеров, и в столицу заглядывал лишь по особому вызову Главного управления СС. И, может быть, поэтому шумное веселье членов правительства казалось полковнику неестественным. Действительно, веселиться было не с чего. На душе кошки скребли: близился конец войны, близилась расплата. Страшная расплата. Немцам проще и легче — они дома. А каково чужакам! С них спросят вдвойне — и за немецкое вероломство и за свое собственное. Все чаще и чаще вспоминал полковник далекий Андижан, вспоминал близких своих, и ему становилось больно. Там, дома, думают, что он пропал без вести, что убит. Светло думают. Со скорбью, со слезами, но светло все-таки. И вот настанет день возвращения. Как он войдет в дом, если войдет, конечно. Ведь не простят, не откроют двери. А что он скажет, если откроют. Будет лгать, лгать без конца, винить судьбу, немцев, весь мир винить — так получилось, судьба! Лучше не возвращаться — эта мысль все чаще и чаще приходила к полковнику. Она казалась спасительной, приносила облегчение. С нею можно было уснуть после мучительных терзаний совести. Не возвращаться — и все! Не переступать порога, не стоять перед судом — он не сомневался, что его будут судить за измену, — не лгать близким. Но тогда что дальше? Война кончается, где то спасительное место, куда можно уйти от расплаты, от боли раскаяния. Он мог бы, как другие, как эти министры, пить. Пить постоянно. Не думать о конце, пусть судьба сама все решит.