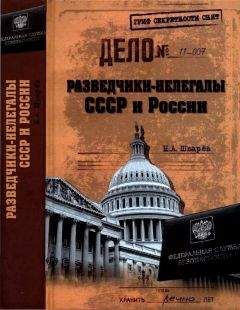Даниил Гранин - Это мы, Господи. Повести и рассказы писателей-фронтовиков
— Может, помог бы? А, сынок?
Я беру ее под руку. Старушка отрывает от тротуара свой посошок и мелкими шажками идет со мной на середину улицы. Рядом, легко опередив нас, перебегают две девушки.
На середине нас настигает новый воздушный залп. Многоцветная вспышка захлестывает над крышами небо. Девушки, проворно мелькнув лодыжками, вскакивают на тротуар и оборачиваются.
— Линочка, какая прелесть!
— Чудо!
Старушка вся сжимается и от страха, кажется, вот-вот готова присесть.
— Ой, Боже милостивый! Ой!
— Не бойтесь! Что уж вам за себя-то бояться?
— За себя, — недослышав, охотно соглашается старушка. — Больше за кого же? За сынков уже отбоялася. Нет уже сынков.
Я догадываюсь о ее беде и не хочу бередить материнскую память. Откровенно говоря, нет уже желания и сочувствовать. Слишком часто это приходится делать. Теперь я только сухо успокаиваю:
— Ничего, ничего, бабуся.
Мы переходим улицу. Сзади с грохотом проносится трамвай. Девушки жмутся одна к другой локтями и, притопывая от нетерпения, поглядывают в небо. Должно быть, для них самое яркое олицетворение войны — вот этот салют. Книжки о ней — скука. История — тоже. Но салют — это зрелище, и они его обожают.
— Ах, сынок, за кого же мне осталось бояться? — просто, как о чем-то будничном, говорит старушка. — Старик в блокаду в лесу голову сложил. Старший, Семёнка, под городом Воронежем от ран умер. Гришутку в студеной стороне — как же это ее, уж и забыла… Мурманской, кажется, зовется. Там убили. А младший, Витяшка, так тот в Черном море утоп. Капитаном был. Правда, за среднего Миколку еще и теперь сердце болит. Что ж… Столько лет. Если бы жил где, то отозвался бы. А то как пошел под Аршаву, так и пропал.
«Целая география», — думаю я. География и история в одном сердце. А сколько их по стране, таких старушек, что вырастили и отдали войне своих сыновей, чтобы вот так коротать немощные годы в тоске и одиночестве.
Старушка тяжело взбирается на тротуар и успокаивается, будто тут взрывы ее не достанут.
— Ну что же они? Так долго! — нетерпеливо притопывают на краю тротуара девушки.
Замедляя шаг, мы подходим к первому же подъезду, и старушка останавливается.
— Ну спасибо тебе, сынок. А то так боязно ходить тут. Знаешь, раньше мы на Комаровке жили, да вот дом на ремонт взяли. Так теперь восьмой месяц у чужих маемся. Ну пойду. Пока сготовишь поужинать… Да и Витенька заждался. Один дома.
— Ну, так Витя все же дома? А говорила — утоп…
— Так это же внучек. Дочернин. С ней и живу. Сынков Бог отобрал, одна дочушка осталась. И то первый ее, с войны придя, вскорости умер. С другим живет. Трое деток у нее.
Старушка пробует улыбнуться мягким беззубым ртом. Морщинистое ее лицо на секунду распрямляется от светлого проблеска ласковости и доброты.
— Ну бывай, бабка!
По-старчески сосредоточившись, она клюет посошком в асфальт, чтобы идти, но тут же оборачивается:
— Сынок, ты, вижу, добрый. Что я тебя хотела спросить: ты не по строительству, случайно, начальник?
— Нет, бабка. Не по строительству. И вообще никакой не начальник.
— Не начальник, говоришь. А я гляжу — рассудительный. Да и на войне, кажись, был: хромаешь, ранитый, значит. Думала: начальник. А то, может, помог бы? Так долго ремонтируют, из силы выбились.
— Нет у меня такой власти, — говорю я. — Да и не здешний я. Проездом.
— Проездом! — упавшим голосом повторяет старушка и, как-то быстро повернувшись, неслышно исчезает в мрачной щели подъезда.
Я окликаю девушек:
— Скажите, это какая улица?
Как по команде, они вдруг поворачиваются. Из-под мохнатых ресниц стреляют любопытствующие взгляды. Какие-то уж очень стройные, легонькие и похожие одна на другую. Как сестры.
— А вам какую надо?
— Да мне чтоб к центру.
— К центру — туда. К вокзалу — туда, — машет одна поочередно в оба конца улицы.
На минуту я останавливаюсь. Зачем мне идти к центру? Все равно в гостиницу уже не устроишься, время позднее. Не лучше ли отправиться на вокзал? Там хоть можно как-нибудь скоротать ночь. Среди людей всегда веселее, не так донимают мысли. Опять же хочется есть. Кажется, я так и не поел сегодня. Только выпил водки.
И я поворачиваю к вокзалу. Девушки сзади кричат:
— Гражданин, не в ту сторону! Центр — туда.
— Спасибо. А я — сюда.
Не оглядываясь, я слышу, как они там хихикают:
— Чудак. Он действует от обратного.
— А может, это шпион? Я читала…
Я внутренне улыбаюсь. Конечно, они читали про разные удивительные истории. Как по окраинным улицам поздно ночью рыскают шпионы, выпытывающие у простаков важные сведения. В карманах у них пистолеты, вмонтированные в авторучку. В протезах фотоаппараты. Надо быть бдительными.
Не бойтесь, девушки, я не шпион. Просто я чересчур разбередил свою душу сегодня. Может, это и не совсем подходяще в такой светлый, торжественный день с красочными салютами в майском небе. Но на то есть причины.
Покоем и вечерним уютом светятся окна домов. Тускло горят витрины промтоварных магазинов. На углу из большого гастронома выгружают тару. Высокие штабеля проволочных ящиков с бутылками, мелко звякая, сдвигаются на тротуар. Рабочие ловко орудуют железными крючками. Одна за другой спешат женщины-хозяйки: с сумками, хлебом, кульками — торопливые покупки на исходе дня. Им не до праздника. До отдыха им также еще не близко — надо прибрать, накормить, приготовить что-нибудь к завтраку. Мужчина на краю тротуара, бережно придерживая, катит велосипед с картонным ящиком, хитроумно прикрепленным к багажнику. Не иначе телевизор из универмага. Рядом — жена. Они о чем-то оживленно спорят — видно, никак не решат, в каком углу комнаты «утвердить» покупку. Что же, в час добрый!
За магазином на углу открывается более широкая улица, в конце которой — залитая светом площадь. Это вокзал. На тротуаре поток пешеходов оттуда — с чемоданами, узлами, свертками, кажется, пришел поезд. Встречные идут по одному, группками, парами. Проходят счастливые влюбленные, наверно, только что встретившиеся после разлуки. Он в нейлоновой рубашке с закатанными рукавами, она — в узкой коротенькой юбчонке, из-под которой доверчиво поблескивают белые коленки. А вот мать ведет за руку девочку, которая все время оборачивается назад, и мать то и дело строго на нее прикрикивает. Но позади интересно! Двое в сбитых, перевернутых козырьками назад кепках уже едва держатся на ногах и, вцепившись один в другого, ведут далеко не праздничный диалог:
— Костя, сукин сын! Ты мне друг или нет?
Костя, однако, не слушая, широко размахивает рукой:
— Мы их били? Били! И будем бить! Чтобы дух из них вон! Кишки на телефон!
Широкий тротуар становится им тесен, и они взбираются на газон. Но там деревья. Тогда, наткнувшись на одно из них, гуляки принимают самое уместное в таком случае решение:
— Лешка! Леш… Отдохнем?
— Лады!..
И падают оба под липу.
Глава двенадцатая
Времени между тем проходит немало. Видно, уже полночь или даже позже. Я не сплю и после всего, что произошло тут, невесело гляжу в печь, которая жарко пылает, гоняя по стене над койкой мерцающие отсветы.
Возле печки, шурша соломой, хлопочут санитары и Катя — они варят картошку. Катя без полушубка, раскрасневшаяся, вся как-то по-хорошему оживившаяся от этой домашней женской работы, хлопотливо двигает казанами на припечке. Сержант, наверно, потеряв интерес к немцу, который молча сидит рядом, перевешивается грудью через койку и своими широкими лапищами все норовит ухватить девушку. Та едва ускользает от его рук, изредка не очень больно хлопая его черенком ухвата по голове. Сержант хохочет, сдержанно улыбается немец. Санитары, однако, привычно не обращают внимания на молодых.
В хате приглушенный гомон; дым от цигарок перемешивается с гарью жженой соломы. Тихо стонет в полумраке кто-то из раненых, и скользят по потолку и простенкам огромные, неуклюжие тени. Мерцающие отсветы от печи то горячо вспыхивают, то тускло трепещут на облупившихся стенах мазанки.
Скоро, наверно, сварится картошка. Я уже ощущаю ее душистую парность в хате и порой забываю о ране, о степи с танками, о своей стычке с Сахно, которая черт знает чем еще кончится.
Я прислушиваюсь к каждому стуку в сенях — только скрипнет дверь, а мне уже кажется: это за мной. Но это ходят бойцы, носят солому, воду. А раз в хату вваливается высокий, в расстегнутой шинели санитар. В обеих руках у него что-то серое и мягкое, которое он сразу бросает на пол.
— Ой, что это?
Катя испуганно шарахается в сторону. Санитар тихо смеется, осклабив широкие, будто лошадиные зубы. На полу у его ног две неподвижные кроличьи тушки.
— Где ты их взял? — удивленно спрашивает Катя. Испуга в ее голосе уже нет, есть удивление и радость — в самом деле, довольны были картошкой, и вдруг крольчатина.