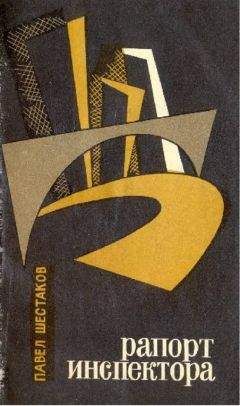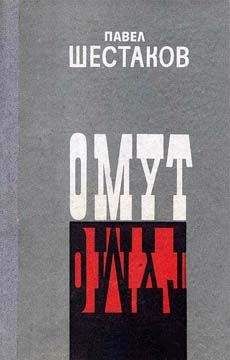Павел Шестаков - Взрыв
— Понятно, Петр Петрович, понятно, — снова вмешался режиссер. — Нам это известно. Нам хотелось бы знать факты.
— Факты — пожалуйста! — охотно согласился Огородников, принимая поддержку.
А Марина бросила взгляд на Лаврентьева. «Вы правы!» — хотела она сказать, но Лаврентьев не увидел ее взгляда, он смотрел в сторону.
— Нас интересуют факты, связанные с нашим сценарием, с картиной, — продолжал Сергей Константинович. — Не расскажете ли вы, как был наказан предатель, погубивший Лену Воздвиженскую?
Этого Огородников не знал, как не знал никто в гестапо, кроме Лаврентьева. Тюрин просто исчез, и некоторые даже подозревали, что он перебежал к красным. Но признаться в неведении значило подорвать к себе доверие, и Огородников ответил уклончиво:
— Предатель понес заслуженное возмездие.
Вообще Огородников обладал способностью легко усваивать и использовать официальные штампы. И как много лет назад он бойко агитировал Тюрина цитатами из фашистской брошюры, так теперь легко изъяснялся в стиле газетных публикаций, обличающих фашистских пособников.
Сергея Константиновича ответ, однако, не удовлетворил, хотя истолковал он его неверно — принял за проявление скромности.
— Петр Петрович! Нам понятна ваша… — Он хотел сказать «скромность», но усомнился, подходит ли это слово, когда речь идет об убийстве, пусть даже предателя. — Нам понятно, что не все воспоминания приятны, однако Михаил Васильевич уже приподнял, так сказать, завесу… Короче, мы знаем, что предатель пал от руки нашего человека, служившего в гестапо.
«Кто ж такой?» — подумал Огородников тупо, а сказал многозначительно:
— Нелегкий вопрос задаете.
— Понимаем, понимаем, однако же… Ведь именно вы служили в гестапо в этот период?
«Я, что ли, Жорку пришил, по-ихнему? Выходит, вроде я…»
— Значит, и вам пришлось слышать? — спросил он у Моргунова осторожно, не догадываясь, что вопросом этим полностью разоблачает себя в глазах Михаила Васильевича. Но, помня наставления Лаврентьева, Моргунов подтвердил угрюмо:
— Пришлось.
И снова он подумал о Марине с симпатией: «Молодец девчонка, врезала этой сволочи без околичностей, а мы миндальничаем. Зачем?»
Огородников тем временем принял решение.
— Ну, раз товарищи в курсе, не скрою и я: это было одно из самых ответственных поручений, возложенных на меня лично товарищем Шумовым.
О подвиге Шумова Огородников, как и все, узнал через много лет из статьи в центральной газете. Узнал и удивился: «Скажи, какой ушлый оказался!» Тогда-то они взрыв с Шумовым не связывали; предполагали, что произведен он был с помощью часового механизма человеком, не находившимся в момент взрыва в здании. Шумов же был в числе погибших. Зато теперь на него ссылаться можно было смело. Тем более что Огородников помнил, как Отто с офицером-техником забирали Шумова у Сосновского, чем он немедленно и воспользовался.
— Должен сказать, что товарищ Шумов оказывал мне особое доверие, ввиду того, что я непосредственно содействовал его освобождению, когда он был схвачен после казни бургомистра Барановского.
— Очень интересно! — воскликнул автор.
Он принимал на веру каждое слово Огородникова и был, как и режиссер, недоволен Мариной. «Ну зачем эти придирки к пожилому человеку!…»
А Огородников между тем весьма подробно поведал собравшимся, как именно благодаря его усилиям, выразившимся в намеренно неточном переводе, был околпачен гестаповский офицерик-молокосос и Шумов изъят из рук палача Сосновского.
В ходе рассказа Моргунов переглянулся с Лаврентьевым, и тот слегка улыбнулся ему и кивнул, имея в виду: «продолжай держаться как держишься», — но Моргунов понял иначе, расценил как подтверждение слов Огородникова и подумал: «Да что ж это за тип, черт его дери!»
— И вот, значит, товарищи, — продолжал снова воодушевившийся Огородников, — когда произошел провал и мне стало известно, благодаря кому, то есть гнусному карателю Тюрину, тогда-то товарищ Шумов вызвал меня и говорит: «Тебе, Петро, важное задание! Убрать приказываю подлеца!» Ну, я в ответ как положено: «Будет сделано, товарищ Шумов». А он мне: «Береги себя. Ты вам нужен очень и потому должен действовать осмотрительно, не бросая на себя подозрений». А это, сами поникаете, в коем положении было очень даже непросто.
— И как же это удалось вам? — спросил автор, делавший беглые записи в блокноте.
У Огородникова радостно заблестели запавшие глазки. Сейчас ему уже казалось, что говорит он чистую правду. Во всяком случае, он не замечал, что противоречит самому себе.
— Я решил воспользоваться выездом на операцию.
Он начисто позабыл, что только что представил себя канцеляристом, далеким от всякой практической карательной деятельности.
— На операцию? — переспросил автор.
— То есть, когда Максима Пряхина брали…
Услышав имя Пряхина, Моргунов вспомнил… песню.
Негромкий, но уверенный низкий голос Максима доносился из комнаты, когда он прибежал к Константину после облавы.
Максим любил петь. Был он смолоду музыкален, играл на трех инструментах. В юности виртуозно справлялся с мандолиной, уважал и гитару, она очень подходила к романсам, что нравились соседским девушкам. Потом в репертуаре произошли изменения. «Очаровательные глазки» вместе с сопутствующими им инструментами Максим осудил как мещанство и полюбил зовущие вперед революционные ритмы.
Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе… —
пел он теперь под баян, резко нажимая на кнопки. И даже когда с Советской властью внутренне порвал, музыку советскую втайне уважал. Особенно нравилась «Ковыльная сторонка».
Шли по степи полки со славой громкой
И день и ночь со склона и на склон, —
вполголоса напевал Максим, возясь вечерами в саду, и Косте разрешал покупать пластинки и крутить на патефоне «Три танкиста» и «Если завтра война».
Но с началом войны баян и маршевые мелодии ушли навсегда. Осталась одна, собственно, песня, еще отцом любимая песня о Ермаке. К ней Максим всегда был неравнодушен, даже в пору романсовую. Шумов помнил, как пели ее во дворе у Пряхиных за широким столом, на котором возвышалась большая четверть с пивом, красные раки вкусно щекотали ноздри укропным ароматом, лежали на клеенке вяленые икряные лещи, чебаки по-местному, и отец Максима с друзьями, захмелевшие и довольные, выводили старательно:
Товарищи его трудов,
Побед и громкозвучной славы
Среди раски-и-инутых шатров
Беспечно спали средь дубравы.
И, произнося эти героические слова, мирные трудолюбивые немолодые люди, наверно, в душе ощущали себя теми незнакомыми предками, что с саблями и пищалями шли глухими дебрями навстречу врагу, раздвигая пределы державы.
— Хорошо поют, черти, — говорил Максим Андрею. — Хорошо, правда?
— Правда.
— Потому что песня сильная.
Теперь, в оккупации, песня эта заново ожила в душе Максима, обретя личный трагический смысл.
Пел он ее с Константином, унаследовавшим семейный слух и мужественный отцовский голос, а безголосый Шумов, из тех, кому, как говорится, медведь наступил на ухо, слушал, подперев голову ладонями, всякий раз покоряясь силе и задушевности песни.
Пели, конечно, не в саду, а в доме, пели вполголоса.
Максим начинал:
Нам смерть не может быть страшна…
Константин подхватывал:
Свое мы дело совершили…
Голоса их сливались:
Сибирь царю покорена…
И оба сурово и радостно проносили последнюю строчку:
И мы не праздно в мире жили…
Тут застучал в дверь Мишка.
Все переглянулись, потому что стук в дверь в те времена не радовал, и Константин, накинув телогрейку, пошел открывать.
Вернулся он один и, как понял Шумов, взволнованный.
— Кого принесло на ночь глядя? — спросил Максим.
— Мальчишка знакомый. Я с ним выйду на минутку.
— Зачем?
— Дело есть.
Ни Максим, ни Шумов ничего больше не спросили.
За Константином скрипнула дверь.
Песня нарушилась. Помолчали.
— Чудно все же, Андрей, — проговорил Пряхин первым. — С твоим приездом в городе вроде потишало.
— В каком смысле?
— Да как бургомистра шлепнули, и тихо с тех пор… А?
— Я-то тут при чем?
— Не знаю.
— А я тем более.
— Не знаю, а чую…
— Что именно?
— Не перед грозой ли затихло?
— Спрашиваешь у меня или вообще рассуждаешь?
— У тебя спрашиваю.
— Опять за старое?
— А оно не стареет. Сын-то — мой.
— Ну и что?
— Скажи, Андрей, почему он тебя уважает? Ведь я не слепой, вижу.