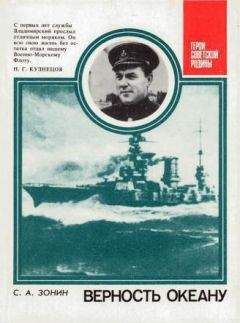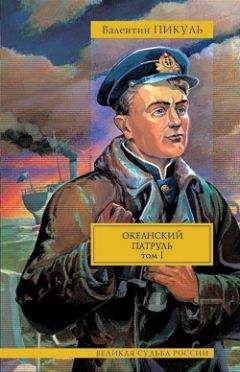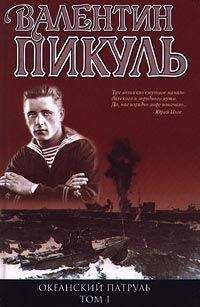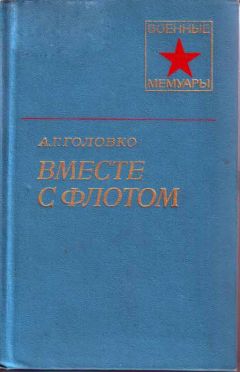Александр Зонин - Морское братство
Кононов подошел, прикоснулся ладонью к холодному камню, и вдруг лицо его сморщилось и губы задрожали. Он нахлобучил шлем и, прихрамывая, почти побежал вниз, к дороге.
«Каталина» медленно и величественно пролетала над бухтой к аэродрому. На дороге нетерпеливо гудела полуторатонка.
— Поехали, — сказал нагнавший летчика Долганов.
— Прощайте!
Кононов крепко сжал руку Игнатова.
— Увидимся, товарищ Игнатов, в деле. А тогда можно будет и веселее вспомнить первую встречу.
Игнатов озорно шепнул:
— Вы поторопите Николая Ильича с операцией. Не то удеру на свободную охоту, а там — ищи ветра в море.
Восемнадцатая глава
1
Грустная пора в Заполярье — осень. Все в природе становится сереньким и грязно-бурым. Холодно и тоскливо из-за туманов. Влажная пелена стоит над водой, проникает в улицы, садится на такие веселые летом, недавно еще серебрившиеся оцинкованные крыши, совсем закрывает нижний квартал многоэтажных домов и пирсы. Даже скалистый кряж обволакивают низкие тучи. Теперь до зимы — со сполохами, расцвечивающими небо, с голубой пуховой шубой снегов, — когда вновь откроются просторы суровой земли и студеного моря, невольно займешься подведением итогов года. А уж если приходится лежать на койке, подчиняясь строгому режиму госпиталя, то от такой работы и отвлечься трудно.
В лодке у Федора Силыча для этого не было времени. Все последние дни требовалось сосредоточить силы на том, чтобы добраться в базу. Приборы врали. Топливо, из-за течи в цистернах, дизели прикончили на траверзе мыса Нордкин. Правда, здесь лодку встретил эскорт и в ночной темени благополучно снабдил соляром. Тут Федор Силыч категорически отклонил предложение перейти на корабль, который быстро доставит его в госпиталь. Он попросил забрать раненого Ивана Ковалева. Как покинуть лодку, когда она скрипит и стонет, когда помятый и избитый корпус пропускает воду и непрерывно нужна работа помп. Преодолевая слабость, вызванную тяжелой формой желтухи, Федор Силыч протерпел даже час встречи на пирсе, с речами и с традиционными призовыми поросятами — торжество для команды без него было бы неполным.
Но в госпитале он имел право снять тормоза. он лежал перед окном, выходившим к стадиону. Если туман и не поднимался на короткий период после полудня, глядеть тоже было не на что. Фанерные листы, которыми были обшиты арки и трибуны, набухли и пожухли, сливались с общим тусклым пейзажем оголенной бескрасочной земли. Никли мокрые флаги и кумачовые транспаранты. Сосед по палате не надоедал. Федор Силыч с некоторой завистью думал о том, что летчик Кононов сохранил, несмотря на ранение и гибель самолета, деятельную силу. И правда, Кононов исчезал из палаты на многие часы. Ковылял по коридорам и лестницам, тормоша больных и раненых летчиков расспросами о новых машинах, звонил то Долганову, то в штаб ВВС и часто забирался в дежурку писать какие-то полетные расчеты и проекты наставлений. Он, как скоро понял наблюдательный Федор Силыч, был увлечен идеями Николая Ильича.
Еще могли бы отвлечь и развлечь книги. Но они нетронутой стопкой лежали на тумбочке. Невозможно следить за чужой мыслью, если надо разобраться в своих делах и прийти к обязывающим выводам.
О чем же думал Федор Силыч, щуря глаза с побуревшими от болезни белками? Тогда в фиорде, перед лицом вероятной смерти, больно стало от сознания, что Клавдия Андреевна отучена им от жизни для людей, от творчества. Но этим сознанием он не мог уже сейчас ограничиться. Он усомнился в безошибочности своих командирских навыков. Приходилось сознаться, что он заботился о своих товарищах — подчиненных лишь в меру практических и прямых требований службы. Хорошо приучал личный состав к исполнению, воспитывал в дисциплине и верности долгу. Но являлись ли они для Федора Силыча людьми со своими особенными чертами? Помогал ли он росту их воли, инициативы? В чрезвычайных обстоятельствах обнаружил способности Маркелова к подвигу, а до того считал лишь, что надо использовать умение Маркелова писать стихи для боевого листка. А случай с Ковалевым? Третий год был парень на лодке, пришел уже в отчаяние, когда он, Петрушенко, спохватился, что человеку нужна активная душевная поддержка. Да и сейчас еще Федор Силыч так и не подобрал ключа, чтобы вернуть ему настоящее жизнелюбие. И наконец, кто виноват во взрыве малодушия молодого командира лодки? Опять он.
Так в чем же порок? Спросить об этом было некого. Клавдия так привыкла, что он распоряжается ее жизнью, что нового этапа в их отношениях не заметила, хотя от унылого прозябания в квартире между его отлучками в море и перешла к хлопотливой, загруженной с утра до ночи деятельности в театре. Она стала необходимой и молодому режиссеру и всему театральному коллективу. Клавдия живет иначе, но не знает, почему это произошло, не знает, что это он захотел быть иным. Она не способна критически отнестись… Такая уж ее любовь!
«А ведь критическую мысль в Клаше я подавил, приучил на все смотреть своими глазами. Но это значит, что я привык властвовать. Хорошим и полезным было в молодости чувство уверенности, но оно перешло в самоуверенность…»
Ну, конечно, он подавлял окружающих, бездумно позволил уважению к нему перерасти в какое-то преклонение. Принимал восхваления, которые перешли должную границу. Скульптурный портрет… По меньшей мере раз в месяц фотографии в газетах от многотиражки соединения до центральной печати… Клаше не нравились очерки, тоже состоявшие из одних громких, пышных слов. Конечно, изображали его этаким сверхчеловеком, как она говорит, «железным шкворнем». Но то-то и ужасно, что он стал равняться на этот нелепый образ.
— Ах, черт, это же безобразно, стыдно! — сказал он вслух, не заметив, что Кононов лежит на своей койке.
— Что безобразно, Федор Силыч? — отозвался летчик.
— Так, знаешь, — замялся, помолчал и все же признался: — Свои павлиньи перья заметил.
Кононов уже лежал под одеялом, но тут сел и с любопытством посмотрел на подводника.
— Тебя, друг, по крайности, люди уважают. А мои перья в авиации надоели до чего! Пока самолет с бортмехаником не угробил, пока Николай мне мозги не прочистил, вовсе себя не понимал. А теперь все-таки думаю, что не только такие нарядные птицы, как мы с тобой, виновны, но и обряжающие. Пропаганда, печать наша чересчур на героев курс держат.
— Война, воодушевляют. — Мысль Кононова была для Федора Силыча новой, но он не хотел за нее хвататься, потому что она в какой-то мере переносила ответственность за собственный его кривой рост на других людей.
В тот же вечер в палате побывал Николай Ильич. Он пришел с новостями. Уже составлены списки офицеров и матросов, командируемых принять новые корабли.
Транспорт, назначенный доставить в Скапа-Флоу необычных пассажиров, спешно разгружают и оборудуют кубрики. Выписываться Федору Силычу и Ивану Ковалеву придется прямо на транспорт. Кононов съязвил:
— Так, значит, морячки решили обзавестись своими «Харрикейнами»?
Федор Силыч из-под насупленных бровей посмотрел на насмешника и пожал плечами.
Что ж поделаешь! Летчикам меньше года пришлось воевать на неуклюжих, слабо вооруженных иностранных машинах. С великим напряжением советский народ перевооружил авиацию. Но для развития боевых средств флота, для постройки кораблей нужны гораздо большие сроки, а воевать надо сейчас. А если надо, то при упорстве, отличном знании своего дела, высокой требовательности людей и с не очень совершенной техникой можно организовать победу.
— Вы что-нибудь слышали о «Л-55»? — спросил он летчика.
— Как же, ведь я балтиец, — сказал Кононов, — это английская лодка, которую потопили возле Кронштадта в гражданскую войну, потом подняли и отремонтировали.
— Предыстория, — перебил Федор Силыч. — А история началась после ремонта, после подъема советского флага. Пока создавали свои новые и более совершенные подводные силы, на «Л-55» обучались наши кадры, целое племя подводников… Так вот, что бы нам ни дали по ленд-лизу, в хороших руках любая посудина сможет бить врага.
Летчик смутился, но не обиделся. Кононов на каждом шагу убеждался, что, замкнувшись в своем мирке, стал неприятно ограниченным, против желания делал ошибки самого разного порядка. Теперь вот непроизвольно сеял презрительное недоверие к кораблям, на которых морякам предстояло пересечь океан и сразу вступить в борьбу с противником, имеющим превосходное вооружение. Хорошо, что сказал об этом не кому-нибудь, а Петрушенко, человеку с кругозором, с ясностью мысли, какой ему надо учиться и учиться.
— Прости, Федор Силыч, сморозил…
— Ничего, брат. Жизнь всех нас учит.
Когда Кононов вышел, Николай Ильич сказал, что пришел к Федору Силычу за поддержкой. Надо повлиять на Ивана Ковалева. В соединении эсминцев предстоит вручение ордена Отечественной войны вдове Андрея Ковалева. Бекренев хочет устроить встречу экипажа «Упорного» с убитой нежданным горем Лизой возможно теплее. Он рассчитывал на поездку с представителями корабля и брата Ковалева. Но Иван обескуражил миноносников решительным отказом. Грубо объявил, что не знал Лизы, а теперь, тем более, не находит нужным знакомиться с ней. Много де таких «полевых» жен, рассчитывающих на деньги по аттестату моряка. А как погибнет, так «жена» сразу находит нового дружка. Федор Силыч, выслушав Долганова, удивился: