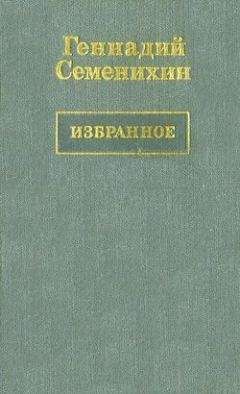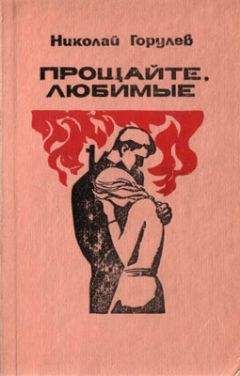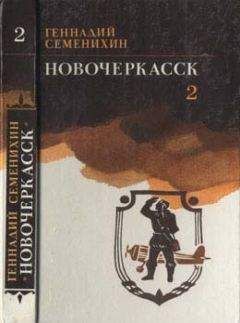Геннадий Семенихин - Жили два друга
– Кто же тебя собирается бить? Тебя, героя Великой Отечественной.
– А если без пафоса?
– Я считаю, что раньше, чем через пару месяцев, тебя не выпишут.
– И на Берлин мне летать не придется?
– Да, Николай.
– Так… – Он долго и напряженно молчал. Обветренные, обкусанные губы сжались. Он глотал подступивший, стиснувший дыхание комок и не мог проглотить. Он думал сейчас не о себе, а об этих людях, приехавших с боевого аэродрома, чтобы на всю жизнь с ним проститься. Мог ли он на них роптать? Он провел с ними долгие месяцы войны, делил опасности на земле и в воздухе. Он был связан с ними одной незримой нитью, и эта нить теперь обрывалась.
– Ты свое сделал, Коля, и сделал отлично, не хуже меня или вот его, Чичико Белашвили. Так, Чичико?
Грузин замотал лобастой головой.
– Слушай, какое может быть сомнение. Ва! Конечно, так.
– А на Берлин… на Берлин мы за тебя слетаем, Коля. И на стене рейхстага за тебя распишемся.
– Словом, все будет как у тебя в песне, – перебил Ветлугина Чичико и тихонько напел:
Отсюда до Берлина рукою нам подать,
Скажите-ка, ребята, какая благодать!..
Мы Геринга повесим,
Адольфа в плен возьмем,
И на стене рейхстага
Распишемся огнем.
– Я эту песню перед первой штурмовкой Берлина всему летному составу прикажу исполнить, – тряхнул головой Ветлугин.
– Почему только летному, командир? – запротестовал Чичико. – И техническому прикажите.
Демин закрыл веко, потому что она все-таки пробилась, эта проклятая незапланированная слеза.
Ветлугин встал, с подчеркнутым вниманием посмотрел на часы. Ему теперь было легче договаривать все остальное.
– Зарема поедет с тобой. Ваши чемоданы мы оставили в холле. И еще один. Там всякие отрезы: и мужские, и женские. Кто его знает, если вдруг тебя уволят в запас, то на первых порах вам с ней будет не так уж легко. А с нашей помощью вы как-нибудь сумеете и обшиться и обуться:
– Вот еще! – забунтовал Демин. – Не буду я носить фрицевское. Да вы в уме?
– В уме, Коля, – мягко улыбнулся Ветлугин. – Мы тебе дарим не какие-нибудь обноски, а самое новенькое из запасов немецкой легкой промышленности, а она не самая последняя в Европе, ты это должен помнить еще по учебникам седьмого класса.
– И помню, – улыбнулся летчик. – От экономического потенциала никуда не уйдешь.
– Вот мы и попытались создать вам с Заремой небольшой экономический потенциал, – кивнул командир полка на чемодан.
Демин все еще молчал; затем натужно проговорил:
– Спасибо, друзья, верю, что вы не забудете Кольку Демина…
– В городе, куда тебя отправляют на операцию и лечение, военкомом работает полковник Деньдобрый, мой друг…
– Я не привык с полковниками общаться, – буркнул Демин, – привык на равных.
– Не ниже маршала, – кольнул Ветлугин, и Демин умолк. – Слушай меня дальше, – продолжал подполковник. – Так или иначе, но, если тебя, не дай бог, спишут, тебе не миновать военкома. Так вот. Передав ему этот пакет, ты можешь рассчитывать на повышенное внимание с его стороны.
– А вы уверены, что этот Деньдобрый вас не забыл?
– Уверен, – отрезал Ветлугин. – А теперь извини, наше время, как говорится, истекло. Прощай, дружище.
Одного тебе счастья в нашей нелегкой жизни. И еще помни, что полк тебя никогда не забудет.
– Отпеваете? – криво усмехнулся Николай.
– Я не поп, – строго заметил Ветлугин. – А слова эти говорю не только от своего имени. Полк тебя не забудет. – Он встал у изголовья на колено и поцеловал Демина в лоб, словно целовал знамя. Потом приблизился к Магомедовой, обнял и ее.
– Гляди за ним… многое теперь и от тебя зависит, – сказал он полушепотом.
– Я понимаю, – таким же полушепотом откликнулась и она. – Будет исполнено, товарищ командир.
– Вот и хорошо, – громко заключил Ветлугин. – А теперь мы пошли. Счастья вам, ребята. Одного только счастья.
* * *Солнце успело уже высоко подняться над острыми маковками сосен, густо окруживших здание госпиталя.
Яркие блики скользили по бронзовому барельефу матери, несущей на руках ребенка, но от этого лицо ее не стало веселее. Жизнь в палатах всех шести этажей шла своим чередом. Пожилая нянечка убрала после завтрака тарелки, а потом двое рослых санитаров-солдат осторожно вынесли кровать с тяжело дышавшим во сне пехотным комбатом. Демин и Зара услышали, как хлопнула дверка лифта, и раненый вместе с санитарами отбыл то ли на верхний, то ли на нижний этаж. А потом те же санитары внесли другую, застеленную свежим бельем койку, и один из них, улыбнувшись Магомедовой, сказал:
– Это для вас.
Демин спал или делал только вид, что спит. Зарема, плохо отдыхавшая в эту ночь, тоже прилегла. Почему-то вспомнила суматошливую Женьку и не удержалась от улыбки. Они не могли определить, сколько прошло времени с тех пор, как умолк в палате разговор, когда раздался страшной силы взрыв, всколыхнувший здание госпиталя. В коридорах началась беготня, послышались испуганные выкрики. Открыв глаза, Зара в ужасе увидела, как валится на стену рыжий ствол многолетней сосны.
За окном распускался огромный столб дыма, перемешанного с песком и землей.
– Коля, нас бомбят, – кинулась она к Демину, но он давно уже проснулся.
– Успокойся, – усмехнулся он, – мы с тобой на третьем этаже и едва ли успеем добежать до убежища… А впрочем, иди одна, обязательно иди!
– Да за кого ты меня принимаешь, – возмутилась Зара, – чтобы я тебя бросила? Ни за что?
– Тогда садись рядом, – пригласил он.
Зарема присела на корточки перед койкой, и Демин взял ее тяжелую, чуть распущенную снизу косу, накрыл ею свое лицо и счастливо засмеялся.
– Черт возьми, какой я, очевидно, богатый, если есть у меня такая коса, такие дивные черные глаза и такая жена, какой даже сам Хазбулат удалой никогда не имел. Зарочка, жена! Никогда не думал, что слово жена такое мягкое, нежное.
Он явно бравировал. Зара это знала и в душе была ему чрезвычайно благодарна, угадывая, что хотел он в эту минуту уберечь ее от бесполезного страха.
– А тебе бы надо злюку, бабу-ягу какую-нибудь! – сказала она.
Он не успел ответить.
Снова застонали падающие бомбы. Но на этот раз взрывы проследовали где-то дальше, только окна отозвались на них жалобным дребезжанием.
– Зара, посмотри, сколько их, но не подходи близко к подоконнику… осколки.
Магомедовой было страшновато, но чуть насмешливый ледяной тон Николая заставил ее успокоиться, и она подошла к самому краю оконной рамы. Увидела косое небо над соснами и на его темноватом фоне косяк наплывающих самолетов с черными крестами на крыльях. Успела насчитать шесть, и вдруг треск пушечных очередей разорвал пахучий весенний воздух. Сразу же две фашистские машины подернулись дымом.
– Горит! – радостно закричала Зарема. – Горит фашист проклятый! Два уже горят, Коля, а их всего шесть.
– Так им и надо, – откликнулся Демин. – А какие истребители их бьют?
– По-моему, «Лавочкины».
– «По-моему», «по-моему», – передразнил он. – Жена летчика должна знать точно.
– «Лавочкины», товарищ старший лейтенант, то есть муж, – засмеялась, Зара.
– О, это, наверное, кожедубовцы. На нашем участке на ЛА-пятых они работают. Тогда гитлеровцам несдобровать, это уж точно.
Магомедова увидела, как четыре фашистских бомбардировщика поспешно развернулись на юг, но в эту минуту истребители с головокружительной высоты спикировали на них, и произошло необыкновенное. В обиходе это называлось разобрать цели. Замелькали трассы, и фашистские самолеты дружно вспыхнули и ринулись вниз, потеряв управление. Четыре костра запылали на земле. А четверка «Лавочкиных» растворилась в голубом небе.
– Коля, это необыкновенно, – захлопала в ладоши Зарема, – я еще никогда не видела такого. Они уничтожили всю группу фрицев.
– Что ты говоришь! – заволновался Демин. – Вот это да! Вот это асы! – Задумался и прибавил: – Если бы я был художником и смог бы изобразить этот бой на полотне, я бы его назвал «возмездие».
Выстрелы и взрывы смолкли, небо стало ясным и чистым, но в госпитальном коридоре долго еще хлопали двери и раздавались возбужденные голоса. К ним в палату около часу никто не заходил, и оба про себя подумали, что об их существовании разволновавшийся медперсонал совсем забыл. Потом со скрипом распахнулась дверь, и в сопровождении неразговорчивой пожилой медсестры вошел высокий, неестественно прямой подполковник Дранко, молча придвинул к себе стул. Из кармашка на белом хрустящем халате торчала черная трубка стетоскопа.
– Как себя чувствуете, Демин? – осведомился он предельно равнодушным голосом. – Боли где-нибудь ощущаете?
– Спасибо. Нигде, – сухо ответил Демин. – Да и какое это имеет значение, я уже конченая личность.
– Это почему же? – вяло усмехнулся хирург, думая о чем-то другом.