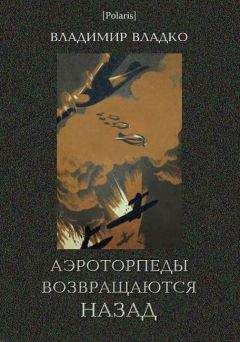Владимир Бондарец - Военнопленные
Мимо эшелона из Венгрии мы ходили целую неделю. Вокруг него регулярно менялся конвой. Крики и стоны внутри вагонов постепенно ослабевали. Однажды в конвое эшелона оказался и Цеппельзак. Когда мы проходили, он устало сидел на ступеньках вагона. Мы встретились взглядами. Старик отвел глаза, беспомощно развел руками: «Что же я могу поделать?»
Потом крики в вагонах прекратились совсем.
Ночью по лагерю передали какую-то команду.
Чуткий Кристиан услышал ее, растолкал Малеина.
— Николай, Николай, работа…
Николай сонно потянулся, вдруг проснувшись совсем, быстро натянул робу. Кое-как зашнуровав ботинки, чертыхаясь, ушел.
Территория, занятая фашистскими войсками, сокращалась неумолимо, как шагреневая кожа. Уже был занят Бухарест, освобождены София, Белград. Завершалось окружение Будапешта.
С запада шли союзники. В Дахау все чаще стали прибывать эшелоны заключенных из лагерей, оказавшихся в непосредственной близости к фронту. Эшелоны возили долго — неделями. И когда привозили в Дахау — половина людей были мертвы, а остальные имели ровно столько сил, чтобы дойти до крематория. Но случалось и так, что в вагонах живых не оставалось, трупы успевали разложиться и, несмотря на зиму, распространяли вокруг тяжелую вонь.
С осени начали работать «Тодтранспорты». Большой автомобильный прицеп нагружали трупами, вручную отвозили в крематорий, сбрасывали, возвращались за новой партией необычного груза. Работали преимущественно ночами.
Малеин возил трупы уже месяца два. Он похудел, осунулся, внешне стал походить на задерганного жизнью старика. Во сне его мучили кошмары. Он метался, бредил, от кого-то удирал. Спать рядом было мучительно. К тому же он провонял трупами так, будто и сам уже гнил, разлагался заживо. Однажды Николай вернулся незадолго до подъема. Он сел на койке, устало сложил на коленях руки, тупо уставился пустыми глазами в пространство впереди себя. Заметив, что я не сплю, проговорил придушенно:
— С ума сойду… Трупы, трупы, без конца трупы…
Проснулся Породенко.
— Что, Коля, тех возили? — он кивнул в сторону брамы.
— Да, тех. Из Будапешта. Одиннадцать суток их продержали в вагонах. Только четырех живых нашли, а было больше тысячи. Хватаешь клещами, а они разлазятся, как гнилая мочалка. Страшно… — Он не договорил, повалился ничком на койку, глухо застонал.
Породенко тяжело вздохнул, молча повернулся на бок.
Вскоре прозвучал подъем.
2Прошло почти полгода в Дахау. На номера вновь прибывающих лагерная канцелярия разменяла сто двадцатую тысячу. После меня в лагерь угодило пятьдесят тысяч человек. Но людей в лагере не прибавилось. Где же они?..
Длинный ансамбль приземистых построек — баня, кухня и склады — встал поперек лагеря, оторвал от его площади узкий продолговатый кусок. На нем жили своей замкнутой напряженной жизнью еще два лагеря спецназначения. В одном содержались особо важные заключенные. Говорили, что видели среди них Леона Блюма, называли еще ряд звучных фамилий, известных чуть ли не всему миру. Говорили даже, что когда-то там содержался Тельман, но, сколько я ни спрашивал, его никто не видел. Другой лагерь служил последним прибежищем дезертирам из СС, как бы конечной станцией на извилистой жизненной колее. За нею все обрывалось, время переставало отстукивать быстротечные секунды. И эту кратковременную остановку комендант превратил в сущий ад как бы для того, чтобы, познав ад на земле, не боялись попасть в него на том свете.
Как только уходили из лагеря команды, из-за угла склада на площадь перед баней с песней выходил взвод дезертиров.
— О-о-о-й-ли, ой-лу, ой-ла.
Звенели в воздухе бессмысленные слова; строевой шаг: носок оттянут; взмах руки назад до отказа. Четко, красиво. Только лица людей бледны, до прозелени опухшие, в синяках.
И начиналось:
— Ложись! Вперед! Встать! Ложись! Вперед!
Проходил час, второй…
Половину из них уже не могли поднять ни дубина «инструктора», ни ужас перед пистолетным зрачком. Тогда «занятия» прекращались, упавших вытаскивали за тяжелые ворота. За ними гулко барабанила автоматная очередь.
А иногда, когда подмораживало, с ними расправлялись иначе: загоняли в небольшую бетонную загородку, приказывали раздеться в баню. Обмундирование аккуратно складывалось на платформу, увозилось в дезкамеру. На людей обрушивались мощные струи воды из пожарных брандспойтов. Редко кто выдерживал полчаса такой бани.
На Аппельплац, с той его стороны, где стоят раскрашенные, как шлагбаум, футбольные ворота, загнали партию новеньких, судя по костюмам, нахватанных прямо с воли. Они перепуганы, бледны, измучены, но еще не потеряли человеческого облика. На многих приличные пальто, костюмы, шляпы, добротная обувь. С собой у них чемоданы, корзинки, саквояжи. Багаж зажимали между ног, ревниво косились друг на друга: «Как бы не стянули».
Не спеша новичков обрабатывали: составляли длинные списки, выдавали номера, сортировали, выделяли в особые группы здоровых, сильных людей. Не видя пока что ничего страшного, новички немного приободрялись, стряхивали с себя чуткую настороженность, кое-где над головами закручивался голубой табачный дымок. Растерянные мысли собирались вокруг поговорки: «Не так страшен черт, как его малюют».
Потом ошеломляюще била по нервам команда:
— Раздеться!
Как? На холоде? Ведь идет снег! Команду принимали за плохую шутку, недоумевали, некоторые даже возмущались.
Выждав одну-две минуты, эсэсовец повторял команду, бросал ее в толпу, как отточенную длинную пику:
— Аусциге-ен-н!
И вместе с командой на толпу бросались десятка два оголтелого двуногого зверья. Били, сдирали одежду, с кожей срывали кольца, часы, ударами кулака выбивали золотые зубы, припрятывали.
— Десять шагов вперед… марш!
На плацу оставался ручной багаж, приваленный сверху кучками одежды. Все это подбиралось сноровисто, быстро и исчезало в ненасытной утробе склада.
На фоне зимнего дня тела людей казались серо-желтыми, будто отлитыми из грязного воска. Они долго топтались на месте, отогревали босыми ногами замерзшую землю, дрожали, корчились, зябко приплясывали. Позже им швыряли по паре полосатого белья, строили, пересчитывали, выводили за ворота, кружным путем гнали в крематорий. И тогда не оставалось места сомнениям, надеждам. Все кончалось, едва закрывались створки железных ворот…
Уложенные в штабеля, трупы ожидали своей очереди вознестись к небу жирной вонючей копотью. А небо, будто подкрашенное разведенной сажей, роняло на землю снежинки. Они, плавно кружась, опускались вниз, все покрывали тонкой пушистой накидкой.
Карантин стал хроническим. Осенью появились случаи заболевания дизентерией. Этого было достаточно, чтобы карантин закрыли наглухо: туда — сколько угодно, оттуда — ни души. От рабочего лагеря его отделили надежным рядом проволоки. За общение с карантином стали наказывать смертью. Эпидемия дизентерии распространялась по карантину с ужасающей быстротой, а когда стало холодно и люди совсем перестали выходить из блоков, к дизентерии присоединился сыпной тиф.
В узких дворах карантинных блоков вырастали правильные штабеля трупов. Мертвецов раздевали, складывали наперекрест, к большим пальцам ног привязывали картонные бирки с личными номерами. Из куч, точно из хворостяных поленниц, уродливо тянулись окоченевшие руки, ноги — такие же худые, крючковатые, как сухостойный хворост.
И все эти люди до последней минуты верили, надеялись, что вдруг да минует их страшная участь.
Не мигая, с безмолвным укором глядели в небо остекленевшие глаза, и, будто усовестившись, низко плывущие тучи притрушивали их пушистым снегом.
А в карантин запирали новые партии заключенных, и он пережевывал их, проглатывал, как исполинский людоед, и крематорий чадил день и ночь, но не справлялся — трупы постепенно накапливались на широком дворе, терпеливо ожидали в длинной очереди.
Команду крематория набирали из штрафников. Их отлично кормили, давали вино, табак и даже приводили к ним женщин из лагерного дома терпимости. Но люди долго не выдерживали. Их меняли каждый месяц. Отработавших сжигали вновь прибывшие и принимались отсчитывать дни своего месяца, в адском труде ждали гибели.
Не менялся лишь капо Эмиль — лагерный палач. Его специальность ценилась начальством.
3Конец войны приближался все явственнее, все ощутимее.
Бомбежки стали почти ежедневными. Если не бомбили поблизости, то пролетали где-то стороной, и воздушные тревоги почти не прекращались. Из заключенных комплектовали бомбокоманды. Они собирали и взрывали неразорвавшиеся бомбы. Каждый день погибали целые команды вместе с конвоем и солдатами-подрывниками. Останки их даже не пытались собрать. Место взрыва иногда огораживали колючей проволокой.