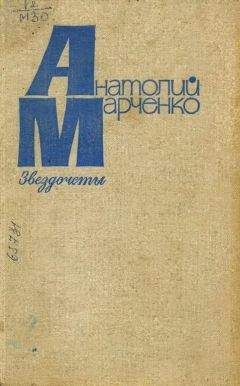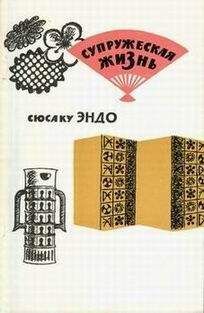Анатолий Марченко - Как солнце дню
Перед тем как двинуться походным порядком, Федоров кратко подвел итоги.
— Юнцы! Держались хорошо. Не все, конечно. — Федоров улыбнулся, и, хотя не назвал фамилий, Саша густо покраснел. — Впрочем, на первый раз простительно. Особая благодарность зенитчикам. И, надо сказать, отменно держался вот этот паренек.
Федоров кивнул головой на Валерия и спросил:
— Как фамилия?
— Крапивин.
Саша увидел, как засияли глаза его друга.
У эшелона Федоров оставил небольшой караул из старослужащих. Старшина уже успел в ближайшей деревушке раздобыть повозку. Он по-хозяйски сидел в ней, нахлестывая рыжую кобылу. В повозку уложили раненых.
Валерий и Саша шли почти в самом хвосте колонны. Саша хромал.
— А здорово мы их отогнали, — бодро сказал Валерий. — Я на них две обоймы истратил. А как ты?
— Знаешь, я растерялся, — отворачиваясь, ответил Саша. — И испугался, что ли. Не могу себе этого простить.
— Не беда, — подбодрил его Валерий. — Привыкнешь. Ты веришь, пока я не видел раненых, я ничуть не боялся. А сейчас как-то не по себе. Но ты же слышал, Федоров говорит, что все это естественно. Каков наш командир! Проницательнейший человек. Все заметит. С таким не пропадешь.
— Да, с ними хорошо.
— Ты хромаешь? Ранен?
— Да нет, — сердито отмахнулся Саша. — Если бы ранен. Ерунда. Сапог жмет.
— Тогда двинули быстрее. Мы можем отстать.
Они ускорили шаг. Саша с ожесточением ступал ушибленной ногой, чувствуя, что еще немного, и идти будет невмоготу.
— Что там сейчас, в Синегорске? — задумчиво сказал Валерий. — Пожили мы с тобой в нем не так уж много, но юность прошла в нем. И сгинула.
— Когда я думаю о нашем городе, мне вспоминается Женя, — признался Саша.
— И напрасно, — нахмурился Валерий. — Мне кажется, ты ей не очень по душе.
— Да, — глухо отозвался Саша. — Я это знаю. Но все равно…
Они долго шли молча.
— Ей нравятся твои стихи? — вдруг спросил Саша.
— Почему ты вдруг об этом? — встревожился Валерий.
— Как-то она мне сказала: «Меня провожал Валерий. И всю дорогу читал мне свои стихи». После школьного вечера. То был наш последний разговор.
— Да, тогда я ее провожал, — сказал Валерий. — Стихи она любит. Но ты не думай, я тебе поперек дороги не стою.
На привале Саше пришлось снять сапог. Ступня распухла и посинела.
— Попросись на повозку, — посоветовал Валерий. — Ты же не сможешь идти.
— Смогу, — упрямо сказал Саша. — Не вздумай говорить обо мне Федорову.
Привал был короткий. Говорили мало и тихо. Каждый думал: «Что там на фронте? Отогнали немцев? Может, в пути нагонит весть о том, что война закончилась? Как там дома?» Кто-то ожесточенно спорил о типе немецких самолетов, налетевших на эшелон. В повозке стонал раненый.
Саша старался шагать, поспевая за всеми. Валерий хотел взять у него карабин, но он отказался.
— Как подумаю, что погибну и не напишу поэму, так страшно делается, — доверительно сказал Валерий. — Этого больше всего боюсь.
Саше не хотелось вступать в разговор, но он все же сказал:
— Погибнем, другие напишут.
Приближался полдень. Над пыльной дорогой, над притихшими перелесками, над хмурыми уставшими бойцами, что шли разрозненной смешанной колонной, высоко в небе стояло жаркое солнце. Оно жгло спины, накаляло вороненую сталь винтовок, до боли слепило глаза. Гимнастерки покрылись серой въедливой пылью.
Все ощутили облегчение, когда с первыми мутными облачками с запада прилетел едва приметный освежающий ветерок.
Погода резко менялась. Тишину взбудоражил крепкий порыв ветра. По небу, большая часть которого все еще сохраняла спокойствие, заспешили клубящиеся дымчатые облака. Они словно пустились в погоню за колонной и норовили быстрее нагнать ее. По высоким травам, по спокойным березам метнулись таинственные причудливые тени. Солнце еще светило, но уже чувствовалось, что вслед за быстрыми неспокойными облаками придут тяжелые дождевые тучи.
И верно, вскоре они появились. Небо сделалось неживым, удручающе-хмурым. Тучи наплывали на светлые просторы неба, густели, их пепельно-дымчатый цвет все темнел, становился иссиня-черным. Вот уже все вокруг померкло. Ожили, закачались, предчувствуя недоброе, кусты, что выстроились вдоль обочин.
Настала минута, когда последний солнечный луч на миг приник к яркой зелени леса и тут же растаял. Лишь далеко впереди, на востоке, оставалась небольшая полоска нетронутого чистого неба.
Ветер подул сильнее. Стало слышнее уханье орудий, раздававшееся позади. Что-то злое, беспощадное было в беспрерывном и настойчивом движении грозовых туч. Никто не удивился, когда черную мглу словно пронзило огненной змеей молнии. Угрожающе загрохотал гром.
Первая вспышка будто послужила сигналом. С нервной поспешностью молнии затеяли ослепительную, дерзкую игру. Крупные капли дождя упруго стегнули горячую пыль дороги, звонко ударили по листьям.
Внезапно в колонне послышался возглас, приглушенный яростным треском грома:
— Смотрите!
Саша поднял голову и тотчас же отчетливо увидел, как из голубого пламени вывалился горящий самолет. Вот он отделился от тучи и наискосок ринулся вниз, оставляя позади себя яркий огненный хвост.
— Наш! — крикнул кто-то.
— Немец. Протри глаза.
— Протри сам. Звезда на крыле.
— Мерещится тебе, что ли?
— Наш. «Чайка», — уверенно заявил старшина Борисовский.
Спор прекратился.
Саша оцепенел. Такую картину он видел раньше только в кино. Но сейчас неудержимо падал вниз, на хмурую неласковую землю настоящий самолет, в котором конечно же находился летчик.
Зрелище это поразило Сашу не только своей необычайностью, не только тем, что оно было страшным, но прежде всего тем, что он, Саша, был совершенно бессилен оказать летчику хотя бы незначительную помощь. И это ощущение бессилия было особенно мучительным.
— Молния его, — высказал предположение Валерий.
— Да, такая ударит… — согласился высокий худощавый паренек.
— Воздушный бой, — спокойно сказал старшина. — Дерутся там, за тучами.
— Воздушный бой? — недоверчиво переспросил Валерий. — Но это же наш самолет. Вы считаете, что немец его одолел? Я не верю.
— Спрыгнул! — раздался радостный возглас.
Самолет уже скрылся за лесом, а в темном небе появилось белое пятнышко парашюта. Оно отчетливо вырисовывалось на фоне мрачных туч.
— Шагом марш! — пронесся над колонной бас Федорова.
Колонна двинулась.
У Саши горело сердце. От того, что испытал жгучее чувство страха, что не мог помочь летчику, от того, что все дальше и дальше уходил на восток по грязной дороге, под ошалелым дождем.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Женя любила проснуться пораньше, чтобы встретить рассвет. Ей казалось, что нет ничего чище, необходимее, чем эта пора пробуждения и надежд.
Но пришел рассвет, который принес с собой войну.
На второй день, когда возобновилась бомбежка, Женя в ответ на предложение матери спуститься в подвал сказала:
— Ты хочешь, чтобы я оказалась там замурованной, как Аида?
— А что же ты будешь делать?
Женя на мгновение закрыла глаза. Длинные черные ресницы чуть-чуть дрожали, словно на них налетал ветерок. Она приняла решение: сказать или не сказать маме?
— Еду на заставу.
— Ты сумасшедшая!
— Мамочка, — как можно ласковее сказала Женя, — я не просто сумасшедшая, я еще и упрямая.
— Что за нелепые выдумки! — возмутилась мать. — На заставу! Ты что — пограничник? Ты знаешь, что там сейчас творится?
— Поэтому я и поеду.
— Отец сказал, что сегодня они заканчивают погрузку станков. Подумай о нас. Разве там не обойдутся без тебя?
— Без меня обойдутся, а я без них — нет, — упрямо сказала Женя. — Никто меня не удержит. Всех наших ребят вчера отправили эшелоном. А мы, девчонки, должны сидеть?
Женя заторопилась, поспешно схватила одежду.
Решение ехать на заставу родилось еще в тот момент, когда мама произнесла слово «война». Война — значит, ее сверстники бьются с фашистами. Там Андрей.
Мать со слезами на глазах вышла из комнаты.
Женя еще не совсем ясно представляла, каким образом она доберется до заставы. Она не была уверена и в том, сможет ли найти там своих одноклассников.
Мать вернулась со свертками, стала совать их в маленький чемоданчик. Женя оделась, мельком взглянула на себя в зеркало. Не так давно она обрезала свои косички. Но странно: на нее смотрело лицо все той же маленькой девчонки, какой она была раньше. Как досадно, что она совсем не повзрослела!
— Прошу тебя, доченька, останься, — все еще не теряя надежды, убеждала ее мать.
Женя промолчала. Это лучше, чем выдать свое волнение. Сейчас она выбежит за дверь, промчится по переулку. Так было всегда. Так бегала она в школу. Но теперь… Мать останется. Останется! Никогда еще Женя не оставляла маму так надолго, как хотела оставить сейчас. Вот она, мама, стоит посреди комнаты. Вся как-то сжалась, притихла, словно поняла, что заставить Женю отказаться от своего — уже не в ее материнских силах.