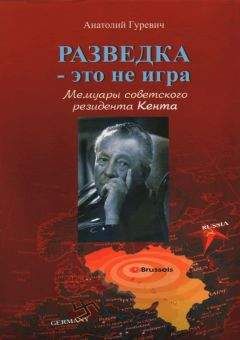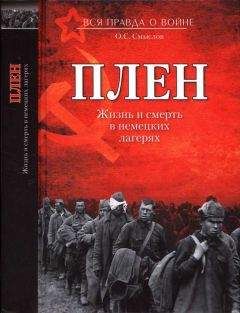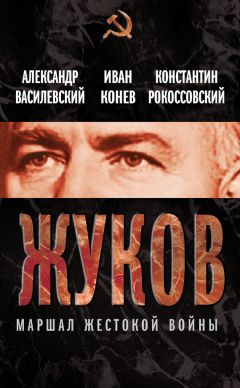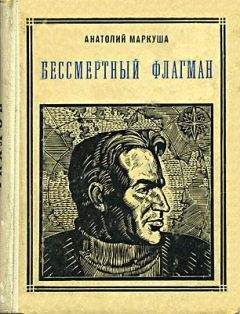Анатолий Маркуша - Нет
На этом месте Хабаров вынужден признаться, что дальнейшие рассуждения не имеют никакого смысла: про кровь и возможные неприятности, связанные с ее изменениями, он знает слишком мало.
«Пусть врачи думают, — решает Хабаров, — на то они и врачи».
Лучшее, что, вероятно, можно было сделать, — заснуть. Но спать не хотелось и смотреть нелепые сны тоже не хотелось. Читать, постоянно лежа на спине, он не мог — быстро уставали глаза. И тогда, чтобы отвлечься, Виктор Михайлович решил прибегнуть к испытанному за минувшие десять дней способу: вернуть себя в прошлое.
Странно, война вспоминалась почти идиллически. И самыми трудными казались теперь не потери, не тяжесть воздушных боев, не нервный озноб первой атаки и даже не преследовавшие его вначале неудачи, а постоянное, изматывавшее душу ожидание.
Все ждали по-разному. Одни старались не вылезать из меховых спальных мешков — и только ворочались, как медведи в берлогах, другие сутками резались в карты или до одури играли в шахматы. Хабаров не любил преферанса и никогда не играл в шахматы. Он мог часами валяться на нарах и думать.
Мысли кружили странными тропами. Например, он вспоминал вдруг, что давным-давно читал о швейцарском часовщике Пьере Дро. Этот человек построил в конце восемнадцатого века механических людей.
Хабаров думал:
«Все говорят «дизель», подразумевая при этом двигатель внутреннего сгорания, простой, экономичный. А кто связывает двигатель с именем Рудольфа Дизеля, создателя машины, человека трагической судьбы?..»
Хабаров помнил множество имен и событий из истории техники и думал об этих событиях постоянно, думал о связи людей и машин, о судьбах идей, опережающих время.
Но какие бы отвлеченные идеи ни посещали его голову, в конце концов мысли всегда возвращали Виктора к полетам. Он перебирал в памяти бой за боем, анализировал свои действия и действия противника, взвешивал указания, полученные на предварительной подготовке к вылетам, и сравнивал их с тем, что говорилось потом на разборах.
Война войной, но и тогда летчикам постоянно приходилось сдавать зачеты: по материальной части, штурманской подготовке, тактике воздушного боя, метеорологии, радиотехнике и многим другим дисциплинам. Зачеты Хабаров сдавал всегда хорошо, правда, нередко ввязывался в словесные перепалки с теми, кто оценивал его знания.
— Вот вы сказали, что после уборки шасси оставляете кран в положении «Убрано»? — спрашивал Хабарова инженер, принимавший экзамены по материальной части. — А как сказано в инструкции?
— Убрав шасси и убедившись по загоранию красных лампочек, что стойки встали на замки, перевести кран в положение «Нейтрально», — не задумываясь, отвечал Хабаров.
— Вот видите — знаете, а допускаете нарушение.
— В положении «Нейтрально» щитки на скорости отсасывает и аэродинамика машины нарушается.
— Но когда кран остается в положении «Убрано», система постоянно находится под давлением…
— Ну и черт с ней, с системой! Мне в бою скорость нужна.
— Допустим, но если от постоянного избытка давления порвет магистральные трубки, как вы будете выпускать шасси?
— Аварийно.
— Э-э, нет! Так дело не пойдет. Если каждый летчик начнет изобретать собственные приемы эксплуатации материальной части, Родина не наготовится самолетов.
— Родина? Стоит ли впутывать в наш чисто технический разговор высокий авторитет Родины, товарищ инженер-майор?
— Как хотите, но я вынужден отстранить вас от полетов.
— На какой же срок?
— Пока не осознаете своей ошибки.
— Вы хотите, чтобы я думал одно, а говорил другое?
— Нет. Вы должны говорить и делать то, что положено…
Через неделю пришел очередной технический бюллетень, и там было черным по белому сказано: «Впредь, до доработки системы уборки и выпуска шасси, следует после подъема стоек и постановки их на замки (контроль по загоранию красных лампочек) оставлять кран в положении «Убрано», что гарантирует наилучшие аэродинамические характеристики самолета и достижение расчетной максимальной скорости».
Кто-то из ребят спросил:
— Как ты допер, Витька?
— Просто: сначала обдумал… потом проверил…
В тот день Хабарова впервые назвали испытателем. Правда, в шутку, и прозвище не пристало.
Испытатель, Сознательно и бессознательно к этому строгому званию Хабаров шел всегда.
В летном училище, особенно поначалу, Хабарову досталось солоно: все, что было связано с теоретической подготовкой, давалось без труда, и в полетах с первых же дней он продвигался успешно, а вот привыкнуть к строгим армейским порядкам, к безропотному подчинению старшим, к регламентированной до последней минуты жизни — это давалось мучительно! И нотаций он наслушался, и выговоров нахватал, и на гауптвахте посидел, пока не закончил курс…
Здесь, в авиаучилище, судьба свела Хабарова с майором Бородиным. Бородин командовал эскадрильей и был в своём роде достопримечательностью учебного заведения. Имея два класса официального образования, все остальное майор постиг самостоятельно; а постиг он многое: Бородин великолепно летал, превосходно учил летать и уже много лет увлекался психологией. Начав дилетантом, к тому времени, когда Виктор стал курсантом, Бородин сделался признанным авторитетом, автором ряда статей в педагогических, медицинских и специальных авиационных журналах.
Бородина уважали, любили и побаивались. Уважали за обширные знания, настойчивость, неиссякаемую, казалось, энергию, любили за справедливость. А побаивались не столько за власть, которой был наделен комэска, сколько за прямоту и уничтожающую меткость высказываний.
Курсант Хабаров был, естественно, достаточно далек от майора Бородина. Далек до тех пор, пока после какого-то очередного «художества» не оказался вызванным на личную беседу к командиру эскадрильи, кстати сказать, не в служебный кабинет, а на квартиру.
Отвыкнув за восемь месяцев армейской казарменной жизни от домашней обстановки, Хабаров был смущен пестрым ковром на стене, настольной лампой под зеленоватым шелковым абажуром и накрытым белой крахмальной скатертью круглым столом, а больше всего — нестроевым видом самого Бородина: дома майор ходил в лыжных байковых штанах и какой-то странной не то спортивной, не то пижамной коричневой куртке.
— Садитесь, — сказал Бородин, — рассказывайте.
— Виноват, не понял, товарищ майор, что именно я должен рассказывать? — спросил Виктор, оставшись стоять между дверью и столом.
— Меня зовут Евгений Николаевич, и, пожалуйста, здесь, не на службе, забудьте о чинопочитании, садитесь и рассказывайте: как жили до армии, чем интересовались, что читали, к чему стремились? Работали? Учились? Женились?
Сбитый с толку неожиданным поворотом разговора, Хабаров начал довольно бестолково, скованно. Видимо, Евгений Николаевич вполне отчетливо понимал состояние курсанта, во всяком случае, не перебивал его нетерпеливыми вопросами, не подгонял.
И, сам того не ожидая, Хабаров рассказал Бородину о том, о чем не рассказывал даже самым близким друзьям-курсантам, признался, что ему нравится летать, нравятся самолеты, что ему очень хотелось бы достичь самых высоких высот в пилотаже, а вот служить… как бы поточнее выразиться, служить трудно, потому что он не умеет подчиняться, не умеет подавлять себя…
Евгений Николаевич не возражал. Он сидел в кресле, склонив голову на руку, и внимательно слушал. Потом, будто только что вспомнив о Хабарове, как-то сразу оживился и спросил:
— Скажите, Виктор, в принципе вы признаете существование необходимости в жизни?
— Как не признавать, когда каждый устав — выражение необходимости, и каждое наставление, и каждая инструкция… А их тут, пока кончишь, штук сто надо сдать.
— Вы так говорите, будто необходимость существует только в армии. А между тем необходимость присутствует всюду: разве инженер, работающий в гражданском строительстве, например, может не считаться с определенными нормами, порядками, объективными закономерностями? Разве цирковой артист не «стеснен» тринадцатиметровой ареной?
— Почему тринадцатиметровой? — удивился Хабаров.
— Потому, что такой стандарт принят во всех цирках мира. Вам нравится летать, и вы неплохо справляетесь с программой, но ведь само по себе летание не может быть конечной целью ни вашей, ни чьей-либо вообще деятельности. Станете ли вы впоследствии военным летчиком, гражданским пилотом, полярником, заводским испытателем — всюду будут правила, ограничения, словом, узаконенная необходимость…
— Так разве ж я анархист, Евгений Николаевич? Я понимаю — без законов жить нельзя…
— Понимаете? Прекрасно! Против чего же вы тогда бунтуете?