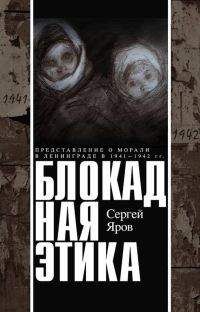Сергей Яров - Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг.
9
Читая дневники и письма, где запечатлены отклики на гибель родных, обращаешь внимание на одну деталь. В них нередко приводятся подробности быта умерших, их характерные слова, жесты, поступки. Словно стремятся на миг «оживить» их, а порой и сделать своими собеседниками. Настоящее с его чередой безымянных могил невыносимо, надо хоть на минуту уйти в прошлое, смягчить переживания – пусть ненадолго, но уйти. «Теперь моя бедная Таня все плачет и не может переносить одиночества… С каждым прошедшим днем Таня все больше и больше расстраивается, вспоминает всякие подробности, мелочи их недолгой жизни» [929] , – писал Г.А. Гельфер.
Самым впечатляющим документом, отразившим психологию этой воскрешающей «лепки», является знаменитый дневник школьницы Елены Мухиной. Это не по годам артистичная, наблюдательная, остро чувствующая любую несправедливость, эмоциональная девушка – добрая, честная, хрупкая. 8 февраля 1942 г. ею сделана в дневнике одна лишь сдержанная запись: «Вчера утром умерла мама. Я осталась одна» [930] . Других записей ни в тот день, ни на следующий она не делала. Она нарочито избегает в это время писать о том, что связано с пережитой ею трагедией. «10/П. Затопила жарко печку. Сейчас в комнате в среднем 12°. Завтра напишу подробнее» [931] . Но подробные записи все о другом: о том, как ей помогала дворничиха, перевозя тело в морг, как она с ней расплачивалась хлебом. О матери она словно боится говорить. Только о себе, о своей судьбе: «Как тяжело одной… Кругом чужие люди, никому до меня нет никакого дела, у всех свои заботы» [932] . Матери нет, об этом и думать страшно. Думать лучше о тех, кто мог бы стать теперь ее опорой. Есть у нее тетя Женя, она далеко, но в трудный момент обязательно поддержит: «Она мне поможет, это бесспорно» [933] .
Нет записей о матери. Записи лишь о том, как готовила пищу, о дровах, о бытовых мелочах – без всяких эмоций, в каком-то оцепенении. 13 февраля боль прорвалась, прорвалась неостановимо: «Мамы нет! Мамы нет в живых… Я одна… Временами на меня находит неистовство. Хочется выть, визжать, биться головой об стенку, кусаться!» [934] .
Обнажаются незаживающие раны. Писать о другом, о чем-то хорошем, чаще утешать себя, подбадривать – может, так лучше? «Я совсем разбогатела. В одной банке у меня пшено, в другой перловая каша… Сегодняшний хлеб за 1 р. 25 очень вкусный, сухой, очень хороший… 3-й день я слушаю радио, так хорошо, совсем не чувствуешь одиночества. Деньги у меня есть… Дрова есть, продукты есть, что мне еще надо. Я вполне довольна» [935] , – записывает она в дневнике 17 февраля 1942 г.
Никуда боль не ушла и уйти не может. Днем раньше, днем позже – записи о матери появятся в ее дневнике. И не уверить ей себя, что стало жить лучше – так не бывает. Блокада не снята: вчера был кусок хлеба, сегодня нет ни крошки. Все съедено разом, с лихорадочной быстротой, в смутной надежде, что завтра может быть «повезет» – да и безо всякой надежды, потому что не остановиться. «Как хочется кушать… Как надоело влачить это полуголодное существование», – пишет она 5 марта 1942 г. [936]
Надо как-то смягчить горе. Не бодрыми заклинаниями, не утешат они: тот же голод, та же стужа, то же одиночество. Может быть, по-другому: «Мне все кажется, что мама только ненадолго уехала по своим делам, и скоро вернется».
Ничто не помогает. Вспоминает все: как в последние дни трудны стали для матери разговоры, как выглядела она («ноги… были как у куклы кости, а вместо мышц какие-то тряпки»). Вспоминает, как наступило у нее просветление. «Знаешь, мне сейчас так хорошо, так легко. Завтра мне наверное будет лучше. Никогда я еще не чувствовала такой счастливой…» – эти слова были сказаны за несколько часов до смерти [937] . Она пробует сдержать боль упорядоченным, даже литературным слогом – и снова срывается в крик: «Мамочка, мамуся, ты не выдержала. Ты погибла. Мамуля, мамончик милый, дружочек мой…» [938]
Приглушить боль можно было только одним: снова почувствовать, что мать рядом, услышать ее голос. И долгим рассказом о ней удержать в памяти ее облик – каждое слово, каждый жест. Чем больше таких подробностей – тем живее кажется единственно близкий человек, и есть надежда хоть на миг уйти от обжигающей тоски. Быть может поэтому описание последних дней матери в дневниковой записи 5 марта 1942 г. столь часто переходит в диалог между ней и дочерью – близость выглядит неправдоподобной: «„На-ка, сними одеяло. Так, теперь сними левую ногу, теперь правую, прекрасно"… „Опля“, – говорила весело она, силясь сама подняться. – „Опля, а ну-ка подними меня так“…Мы прижались друг [к] другу, обе плакали: „Мамочка дорогая" – „Лешенька, несчастные мы с тобой"» [939] .
10
0 чувствах людей, потерявших родных во время блокады, писали часто. Писали и с чужих слов, торопливо, скороговоркой. Писали осторожно, оглядываясь на цензуру. А. Фадеев, приехавший в Ленинград в конце весны 1942 г., примет «смертного времени» не обнаружил. Вымытый, чистый город, трупов на улицах нет, солнце, дети, радующиеся солнцу. Горожане, еще истощенные, но полные решимости отстоять свой город. Рабочие, которые, испытывая трудности, готовы к новым трудовым подвигам. Все пробуждается: надежда, бодрость, оптимизм. Так писал в то время о Ленинграде не один Фадеев. По этой канве составлены передовые статьи городских газет, ей следуют и очерки Н.С. Тихонова [940] , названия которых словно повторяют «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого – «Ленинград в мае», «Ленинград в июне»; в них, правда, мало толстовской изобразительности. Трудно сказать, знал ли Фадеев всю правду: о многом открыто говорить было нельзя. Удивительно скупы неподцензурные наброски жизни города в его записной книжке [941] – некоторые из них почти дословно перекочевали оттуда в книгу «Ленинград в дни блокады», изданную в конце 1942 г. Он беседовал с очевидцами, в частности, с тем же Тихоновым, кое-что из страшных картин прошедшей зимы прорывается в его дневнике. Он решается сказать даже и такое: «…Вид человека, умирающего от голода на заснеженной улице, стал не редкостью в Ленинграде» [942] . Продолжение этой записи отчетливо показывает степень его осведомленности: «Пешеходы проходили мимо, снимая шапки или сказав два-три слова участия, и иногда и совсем не задерживаясь». То ли был обманут, то ли сам придумал спасительную оговорку, чтобы хоть что-то сказать о ленинградской трагедии: мы знаем, что и шапок не снимали, и слов не говорили, и делалось это не «иногда», а очень часто.
Но есть у Фадеева в его книге одна глава, где уверенный, спокойный тон исчезает, где, пожалуй, все затверженное накрепко в его военной публицистике обрывается – и вместо фальшивой позолоты проступает чистое золото человеческой любви, сострадания и милосердия.
Это рассказ о детях, потерявших родителей и живших в приютах. Им не требуется героический ореол – они слишком малы для этого: сгорбленные, печальные, «все как один жались к печке… с плачем отвоевывая себе место» [943] . Они замкнуты, непослушны, на всех из них – печать огромного, непосильного для них, непередаваемого обычным языком горя. Фадеев все записывал со слов воспитательниц, и какой-то налет дидактики и ласковой назидательности их речи передался и ему – он в ряде случаев просто переписывал их отчеты.
В этих записках – сплошная череда детей с исковерканными судьбами, печальных, страдающих, не оправившихся от голода. Это позднее (и очень быстро) будут стерты у них впечатления о жизни с мамой [944] , но сейчас они держатся, словно за соломинку, за все, что возвращает их в прошлое. Вот мальчик Лорик, пытающийся спрятать пудреницу с портретом матери от чужих глаз: «Смутился страшно, когда заметил, что я наблюдаю за ним… „У меня моя мама, я берегу ее«– шепотом сказал он мне, – „Я сам это сделал, сам тесемочку привязал«… В этот же день он подробно все рассказал и о смерти мамы, и о смерти тети, и о том, почему не хотел никому показывать портрет. „Я хотел только один… только один" и больше не нашел слов сказать» [945] . Семилетний мальчик Леня не хочет снимать ставшую бесформенной шапку – она дорога как память о брате. Шестилетний мальчик Женя, приведенный в детский дом, показывал всем фотографии матери. «Ночью просит няню поднести свет, чтобы посмотреть на портрет мамы. На вопрос няни, почему он не спит, Женя отвечает: „Я думаю все о маме. Я сам не хочу думать, а все думаю да думаю"» [946] .
«Она болезненно цепляется за все, что хотя бы немного напоминает ей мать и былую жизнь дома» – это замечание об одной из девочек-сирот верно и по отношению к другим детям-детдомовцам. Только это у них и осталось, чтобы заглушить нестерпимую боль. Не очень-то сладко живется им здесь. Едва ли они были сыты. Чего стоит одно лишь описание того, как они ели – блокадное бытие с его дележкой крохотного куска хлеба ничем не вытравить: «Суп они ели в два приема, кашу или кисель они намазывали на хлеб. Хлеб крошили на микроскопические кусочки и наслаждались тем, что кусок этот ели часами» [947] . Фадееву не все было дано увидеть, но из других источников можно почерпнуть сведения о далеко не добрых нравах воспитанников приютов. И обижали детей там, и более сильные отнимали еду у слабых, случались и драки [948] .