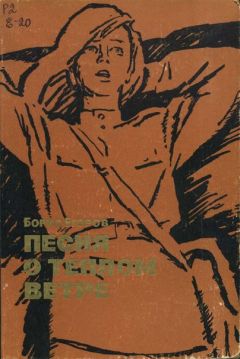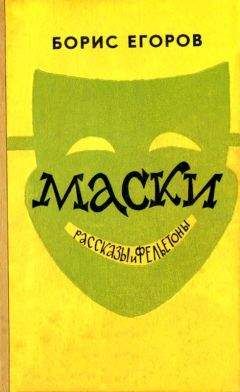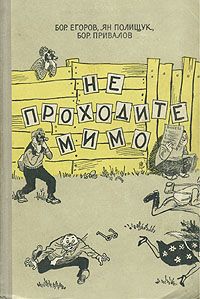Борис Егоров - Песня о теплом ветре
И снова осень, снова зима…
О лагере, о ночных походах, о кострах, над которыми шипели наши солдатские котелки, можно только вспоминать.
…Над нами звезды. Рядом пляшет пламя костра, а мы поем:
Не забыть нам годы боевые
И привалы у Днепра.
Завивался в кольца голубые
Дым махорки у костра.
Поем мы эту песню, и у нас такое чувство, словно мы сами когда-то в далекие годы седлали боевых коней в приднепровских степях и ходили в лихие атаки.
К концу срока лагерь нам надоедает, хочется скорее в Москву, домой…
А сейчас при одном только напоминании о лагере мы немедленно переносимся туда, в Кувшинки.
Но за окнами метет метель, и холодный ветер раскачивает фонарные шары.
Снова Ласточкина требует назвать сто немецких слов.
А Комаров не устает повторять, что математика — увлекательнее романов Дюма.
Это он говорит по привычке. Нас агитировать нечего. Троечников у Комарова нет, а на логарифмической линейке мы работаем, как машины.
Иногда на занятия заходит майор Кременецкий.
Посидит, посмотрит, скажет:
— Ну, ну, продолжайте. Учтите, это ваш будущий хлеб. С этой линейкой всю жизнь топать будете.
Опять агитация! А нам самим уже прекрасно известно, что к чему.
Поначалу мы боялись майора. Он казался нам очень суровым, замкнутым. А потом увидели, что человек он добрый, а внешняя суровость — это, наверное, от долгой воинской службы.
Только что он стоял перед строем, читал нам нотации, был строг и непроницаем. Но звучит команда «вольно, разойдись», мы окружаем Кременецкого, он уже другой.
— Расскажите, товарищ майор, как вы воевали в Испании.
— О чем вам еще вспомнить? — спрашивает майор. — Вроде я обо всем уже говорил. Хотя нет, вот один случай.
И наступает тишина. Мы слушаем его чуть нестройную, сбивчивую речь. Боевые эпизоды, в которых он участвовал, для нас не история, не прошлое, а то, с чем, может быть, очень скоро придется встретиться каждому спецшкольнику, или, как мы говорим, сокращенно — спецу.
Цветы и снег
В комсомольской комнате, бережно завернутое в чехол, стоит знамя. Оно присуждено нашей школе Московским комитетом комсомола. Когда все шесть школ идут по городу на Красную площадь, впереди — наша, знаменосная.
Знамя — наша большая гордость. Надо сохранить его у себя, не отдать соперникам. А соперники — серьезные, постоянно наступают на пятки, отстают от нас всего на несколько очков.
И потому каждый раз, о чем ни идет разговор на комсомольском бюро, он неминуемо возвращается к знамени.
Если мы в чем-то сдали, если произошла оплошность — у нас тревога: останемся ли мы знаменосцами?
Придирчивые судьи и комиссии все учитывают. В последнее время нам не очень везет: не отличились на тактических занятиях, неудачно выступили на соревнованиях по химзащите.
И вдруг — совсем уже ЧП.
Был лыжный кросс. Мы шли десять километров кольцевым маршрутом. Наш одноклассник Троицкий, чтобы «не переутомиться», решил схитрить. Вскоре после старта отстал, а потом, когда все ушли вперед, пересек кольцо по диаметру и стал поджидать товарищей. Первым он, конечно, не пошел, пропустил перед собой десять-двенадцать человек и… снова на лыжню.
Мы кипим от злости. Вызванный на бюро Троицкий молчит, стоит, опустив голову. Спрашиваем:
— Совесть есть у тебя?
— Какая совесть? Он чуть не стал чемпионом мира, только не захотел из скромности, — мрачно шутит Тучков.
Члены бюро говорят, перебивая друг друга:
— Это похоже на дезертирство!
— С того дезертиры и начинают.
Троицкий после этих слов молчать уже не может.
— У меня нога болела. Я бы во время не уложился…
— А так ты уложился, и вышло, что наша школа ни одного очка не потеряла…
— Конечно, — говорит Троицкий, чувствуя, что у него есть хоть какое-то оправдание…
— Не подвел, значит?
— Брось, Троицкий, врать, — взрывается Тучков. — Пей меньше чаю, ешь меньше котлет и не бери талончики у врача на освобождение от физкультуры.
— А что ему эти рецепты?
— Как что? — переспрашивает Тучков. — Поручите мне физвоспитание этого типа. Я из него человека сделаю!
— Постой, постой, Тучков, — говорю я. — Пусть Троицкий скажет, что нам делать?
По толстым веснушчатым щекам Троицкого текут слезы.
— Э-э! Еще нюни распускаешь?
— Что нам делать, Троицкий?
— Ну, накажите меня… Взыскание дайте…
— Хорошо. Вынесем выговор, строгий даже.
— А как с общим зачетом? Судьи не заметили твоего поступка. Комиссия считает, что в нашей школе все до одного показали хорошее время… О твоей проделке узнали только мы. И то случайно.
— Я сказал: накажите меня. А зачем же всю школу?..
— Ты предлагаешь, чтобы мы промолчали?
— Ну да, — снова горячится Тучков, — он обманул нас, а мы должны скрыть все и обмануть других… Мы вроде соучастниками будем.
— И после этого он говорит, что осознал…
В комсомольскую комнату входит Тепляков. Он знает, о чем идет разговор, и, едва опустившись на стул, спрашивает:
— Так что вы, Крылов, хотите делать с Троицким?
— Товарищи предлагают строгий.
— Строгий все-таки не советую. А дальше?
— Напишем письмо в судейскую коллегию. Так, мол, и так, в нашей школе мы обнаружили… вскрыли…
Члены бюро опускают головы, хмурятся.
— Может, у кого другое мнение? — спрашивает старший политрук. — А? Нет? Ну что ж, как ни горько, придется написать. А вы расскажите об этом по батареям, по взводам.
Говорит Тепляков спокойно и даже улыбается. «Почему он улыбается? Откуда спокойствие, если все мы так взволнованы? — думаю я и вдруг нахожу ответ: «Если бы мы были спокойны, тогда бы он взорвался…»
Мы с Тучковым выходим из школы. Морозный, безветренный мартовский вечер. Громыхают трамваи. Кричат мороженщицы: «Кому эскимо на палочке в шоколаде! Кому эскимо…»
Светятся рекламы магазинов: «Одна банка консервированной кукурузы заменяет пять куриных яиц!», «А я ем повидло и джем!», «Снова на экранах фильм «Чапаев»!»
— Сколько раз смотрел «Чапаева»? — спрашивает меня Василий.
— Шесть.
— Я — семь. Но и сейчас бы пошел… Только завтра контрольная. Ты домой?
— Нет, в библиотеку.
— Ага, опять свидание? Ну-ну, не делай вид, что не так. Слушай, Сашка, зайдем ко мне.
— Тороплюсь.
— Ненадолго, Я тебе конспекты забыл принести. Вот и возьмешь. Кстати, у меня, кажется, сейчас. Курский. Он еще немецким с мамой занимается…
Дома у Тучкова мы застаем только его старшую сестру — худенькую девушку с очень тонкими чертами лица и большущими голубыми глазами. Она сидит у патефона и слушает «Челиту». На коленях — книга.
— Как всегда, Ольга свою медицину учит под музыку, — говорит Василий. — Знакомьтесь. Это мой друг Саша, а это, как я уже сказал, Оля.
Ольга мягко, чуть застенчиво улыбается, протягивает мне руку. Потом снимает с патефона пластинку.
— Медиком будете? — спрашиваю я.
— Да. Педиатром. Детским врачом, — отвечает она. — А вы, как и Вася, военным? Ну, вам, мальчишкам, это нравится… Романтика! А я стану обыкновенным, ординарным участковым врачом.
— Интересно, — замечаю я.
— Что интересно?
— То, что вы будете врачом.
— Разве это так необычно?
— Нет, совсем нет. Очень многие девушки хотят стать врачами.
— Это он про свою Ингу! — восклицает Василий. На столе в вазе живые цветы.
— О! У вас цветы!
— Это мама иногда с приемов приносит, — говорит Ольга.
Василий радостно хлопает себя рукой по животу, кричит:
— Эврика! Сашка, возьми для Инги цветы! Будешь настоящим кавалером. Оля, отбери ему самые хорошие. Он должен преподнести их своей даме!
Ольга наклоняется над вазой и протягивает мне два цветка гвоздики — белый и красный.
Я прощаюсь и, едва закрыв дверь, бегу по лестнице, бегу так быстро, что сталкиваюсь с кем-то, извиняюсь. Мне вдогонку слышатся слова:
— Сумасшедший! Псих!
Ингу я застаю в гардеробе библиотеки. Она уже надевает пальто.
— Вот тебе цветы! — говорю я, запыхавшись.
Наверно, я делаю это так неуклюже, что несколько человек оборачиваются и насмешливо-снисходительно смотрят на меня.
Глаза у Инги блестят, губы чуть шевелятся. Я заметил, что, когда она взволнована, у нее всегда шевелятся губы. Словно она что-то произносит. Только беззвучно.
— Куда пойдем? На набережную?
— Не знаю, — говорит Инга и смеется.
Сзади нас раздается автомобильный гудок. Оборачиваюсь: такси.
— Инга, поедем на такси в центр!
— Ой, что ты? Я никогда на такси не ездила.
— И я тоже. У меня есть три рубля!
Я поднимаю руку.
В машине темно. Только близко-близко, рядом-рядом светятся глаза Инги.