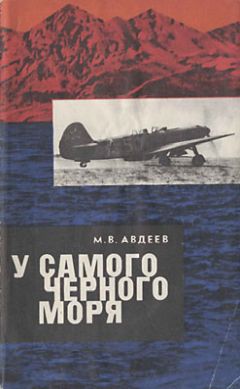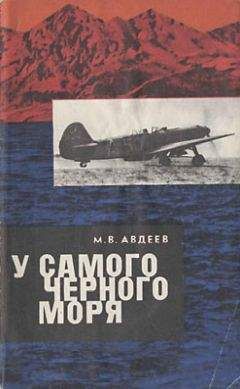Михаил Авдеев - У самого Черного моря. Книга II
Наконец Любимов в своем полку, среди боевых друзей-однополчан.
Павлов обнял Любимова.
— Как добрался, дружище?
— Долго ехал до Тбилиси. С попутными эшелонами.
— А у нас здесь жарко.
Любимов незаметно наблюдал за Павловым. Нет. Не изменился. Та же хитринка в глазах, лысоватый зачес, крепкий, как могут быть крепкими только завзятые охотники и рыболовы.
Только, кажется, постарел немного или чудовищно устал.
— А у нас здесь жарко, — машинально повторил Павлов.
— Не заметил. Когда был в Сухуми, даже подумал: а может быть, войны вообще нет? Те же пальмы, те же санатории.
— Санатории, говоришь… скоро ты сам увидишь, какой это санаторий. Гитлеровцы обнаглели. Недавно их подлодка в надводном положении обстреляла поезд Адлер — Сочи. А в Сухуми ты ничего не заметил? Сухуми уже бомбили. В других местах еще жарче. Черноморский флот теперь базируется в Поти. Немецкие бомбардировщики пытаются прорваться туда чуть ли не каждый день. По всему побережью воздушные бои… Вот тебе и санаторий!
— В Севастополе жарче было, товарищ командир полка. Как-нибудь и здесь выдюжим.
Павлов улыбнулся.
— Ладно. Ну а что ты собираешься делать? Давай откровенно. Я знаю: ты надеешься снова стать истребителем. Это невозможно. Лучше сразу сказать тяжелую правду, крутить не люблю.
— Да, правду лучше всего говорить сразу… Но была ведь еще и другая правда.
— Какая?
— Вспомните Севастополь, госпиталь.
— Ну и что?
— Вы мне сказали тогда: залечишь раны — пойдешь в небо. Сейчас я здоров.
— Ну, это ты расскажи кому-нибудь другому. Он, видите ли, здоров!.. После таких ран…
— Значит, обманывали меня в Севастополе?
— Нет, не обманывал. Я сам надеялся на чудо. Надеялся, что ногу тебе спасут…
Павлов взглянул на Любимова и понял: отказать ему сейчас во всякой надежде — значит убить человека.
— Хорошо, не будем ссориться. Ты знаешь: для тебя я готов сделать все. Все, кроме невозможного… Решим так — оставайся здесь, приглядись, приди в норму. А там будет видно.
— Я все равно буду летать! — запальчиво крикнул Любимов и хотел уже рассказать о том заветном, что произошло в небе за Сталинградом. Но тут же осекся: пожалуй, после его исповеди Нихамину нагорит. И он промолчал.
Все началось с велосипеда.
Однажды Любимов не без тайного умысла продемонстрировал Павлову свои возможности: лихо сделал два круга по аэродрому. Ошеломленно смотрел за всем этим командир полка.
— Ну порадовал, не ожидал от тебя…
— Значит, севастопольское обещание остается в силе?
— Посмотрим.
— Что же смотреть, товарищ командир? Вы только что видели.
— Вгонишь ты меня в гроб, Любимов! — Было видно, что Павлова раздирают противоречивые мысли. — Впрочем, вот что… Завтра я, пожалуй, покажу тебе с воздуха наше хозяйство. Согласен?
«Главное подняться, — решил Любимов. — А там посмотрим. Уговорю я его».
— Есть, товарищ командир!
Павлов сдержал слово. Утром из капонира выкатили Ут-2.
— Ну-ка, друг, выруливай к старту.
— Есть, к старту! — Любимову почему-то хотелось сегодня вести себя точно по уставу. Ему казалось: малейшая оплошность может погубить все, и был, как сжатая пружина.
Самолет на старте. Павлов подошел, направился к кабине. Любимов решился:
— Дозвольте лететь мне одному, — тихо сказал он.
— Рано, пожалуй, одному…
— Разрешите, — настойчиво повторил Любимов. — Все будет хорошо. Я справлюсь.
Подошли Стариков, Тащиев, Литвинчук.
— А может быть, действительно разрешить ему, товарищ командир? Он же опытный летчик. Не сомневайтесь. Справится.
— Вас только и не хватало, адвокаты, — сердито бросил Павлов. — Ладно! Разрешаю самостоятельный полет…
Через несколько дней Любимов поднялся в воздух на истребителе Як-1.
Позднее, когда уже не стало Павлова, а Любимов был назначен командиром полка, к нему приехал военный корреспондент Григорий Сорокин. Не любил командир рассказывать о себе «для печати», но тут, видимо, было задето что-то очень сокровенное, если он чуть-чуть приоткрыл свою душу.
— В те дни мне казалось, — рассказывал Любимов, — что путь к воплощению моей мечты будет очень короток. Мне не терпелось самому вести летчиков в бой и самому воевать. Я был командиром полка. И это обязывало. Но я никому, даже по секрету, даже самым близким друзьям, не мог рассказать, что рана у меня открылась…
Да, протез причинял ему много страданий, и, возвращаясь из штаба или командного пункта на свою квартиру, он плотно закрывал двери, снимал сапоги, протез и с отчаянием глядел на кровоточащий обрубок ноги. Рана не заживала, и больше всего он боялся, как бы не открыли в полку эту тайну и не отправили бы его в госпиталь. Он много летал, тренировался, но о боевых полетах пока нечего было и мечтать.
Так продолжалось до мая 1943 года, самой памятной весны в его жизни. В мае 32-й истребительный авиаполк был преобразован в 11-й гвардейский, и в то же время его нога окончательно зажила. Эти дни стали для Любимова как бы вторым рождением.
Мухин принимает вызов
Честно могу признаться, что даже в приключенческих романах читать такое не приходилось…
Впрочем, обо всем по порядку.
Жители Геленджика наблюдали в тот день картину воистину небывалую.
Над батареей, ведущей мощный огонь по наступающим гитлеровским дивизиям, появился нежданный, более того, совсем нежелательный гость.
Из-за туч вынырнул «фоке-вульф-189». Прошелся над батареей раз, второй, третий. И тут немецкие снаряды дальнобойной артиллерии, которая вела контрбатарейную борьбу, стали ложиться все кучнее и кучнее рядом с нашими пушками.
Нетрудно было предугадать, чем все это кончится через самое малое время: «фокке-вульф» был воздушным корректировщиком.
— Мухин и Маслов, в воздух! Сбить «фокке-вульфа»! — приказали с командного пункта.
Взлетела пара ЛаГГ-3.
— Маслов, имитируй атаку слева, отвлекай огонь на себя, — передал по радио Мухин. — Я попробую ударить с хвоста.
«Фоккер» яростно огрызался. Вел его, видимо, опытный летчик, потому что и два, и три, и четыре раза немец уходил от, казалось бы, точных ударов.
А на плоскостях мухинского, «ястребка» уже появились пробоины.
Мухин начал нервничать, допускать тактические ошибки: бил с большой дистанции, неточно прицеливался.
Во всяком случае, хотя гитлеровец и задымил слегка, но довольно свободно уходил в сторону моря.
— Любой ценой уничтожить противника, — Мухин узнал в наушниках голос командира полка.
— Есть уничтожить! — ответил летчик. В это мгновение ему удалось наконец подойти почти вплотную к брюху «фоккера».
— Теперь не уйдешь! — палец привычно нажимает гашетку.
Но что это? Пулеметы молчат.
— Дурак! — обругал себя летчик, но так, что его услышали на земле.
— Кто дурак? — послышался изумленный голос с земли.
— Я дурак! Расстрелял весь боезапас. — И через секунду:
— Иду на таран!..
Земля не успела отозваться приказом.
На глазах сотен людей ЛаГГ-3 врезался «фоккеру» в хвост.
Две темные фигурки почти одновременно отделились от фашистского разведчика. Вскоре над бухтой раскрылись купола парашютов.
Но где же Мухин?
И только здесь люди заметили, что чуть выше гитлеровцев спускается на парашюте Семен.
— Сволочи! Они его расстреляют! — вскрикнул вдруг кто-то из нас.
И действительно, фашистские летчики, вынув «парабеллумы», начали в воздухе вести огонь по Мухину.
— Что же он не стреляет? Может быть, у него нет пистолета?
— Он хочет, чтобы их взяли живыми, — высказал предположение командир полка. — Но это может слишком дорого ему обойтись…
— Стреляй же, стреляй! — неслось с земли, хотя, почти наверняка, Мухин ничего не мог услышать.
— Стреляй!
Далее события развивались стремительно. Вначале никто даже не понял, что произошло.
Мухин расстегнул кобуру, вынул пистолет. Потянул стропы — скорость его падения возросла.
Он явно сокращал дистанцию между собой и врагами.
Вот он вскинул руку — фашист мешком обвис на парашюте.
Второй выстрел был уже слышен. Другой гитлеровец дернулся, парабеллум упал в море.
— Ура-а! — кричали почти все: кричали на аэродроме, на пирсах, в городе. А парашют Мухина уже качало на темной воде. К нему стремительно шли катера.
Павлов уходит в бессмертие
Гитлеровцы стервенели. Волна за волной шли на Туапсе немецкие бомбардировщики. Злость — плохой советчик, и не один десяток фашистских асов уже сложил здесь свою голову. Поэтому все ожесточеннее становились приказы немецкого командования, и мы не удивились, найдя в планшете одного из сбитых немецких летчиков письмо с признанием в высшей степени характерным: