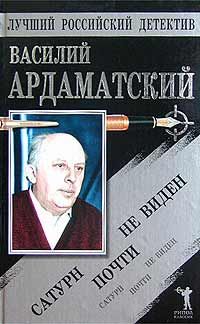Всеволод Крестовский - Очерки кавалерийской жизни
— «Вы замундштучили меня», — начал он с фанфардами в аккомпанименте, который все время идет марсиальным темпом кавалерийского марша:
Вы замундштучили меня
И полным вьюком оседлали;
И как ремонтного коня
Меня к себе на корду взяли.
— О, да! В этом отношении я — опытный и лихой берейтор! — воскликнула Эльсинорская и, как бы в подтверждение своей похвальбы, сняла со стены манежный бич и, отступя в глубину комнаты, действительно очень ловко взмахнула им и щелкнула.
Апроня продолжал свое «Признание кавалериста»:
Повсюду слышу голос ваш,
В сигналах вас припоминаю
И часто вместо «рысью марш!»
Я ваше имя повторяю.
— И на гауптвахту попада! — экспромтом добавила Эльсинорская.
Несу вам исповедь мою.
Мой ангел, я вам рапортую,
Что я вас более люблю.
Чем пунш и лошадь верховую!
— Merci за лестное сравнение с лошадью! — пренебрежительно выдвинув румяные губки, в шутку поклонилась певцу его пассия.
— Да это, может быть, очень лестно для женщины, но плохо для кавалериста, если он уже начинает любить что-нибудь более своей лошади! — не без легкой язвительности заметила Радецкая, которой, как кажется, в душе было немножко неприятно, что некоторые отдают предпочтение не ей, а ее сценической сопернице.
— А что, господа, хорошо бы теперь жженку уланскую да трубачей бы сюда? — расходился мой сожитель. — Одобряете аль нет? Уж прощаться так прощаться с товарищем, чтобы проводы были как следствует! А то, поди-ка, жди, когда-то еще он приедет теперь в штаб из своей свислочской трущобы!
Мысль была единодушно поддержана. Трубачи в этих случаях идут с величайшей охотой, в котором бы часу их ни подняли. Они знают, что во всех подобных казусах труды их оплачиваются с избытком.
Хоть и было уже около трех часов ночи, но адъютант тотчас же поехал в свою трубачскую команду за музыкой, а принадлежности для жженки нашлись и дома, тем более что эта «уланская» жженка приготовляется хотя и по особому, но нехитрому и несложному рецепту. Во всех холостых военных компаниях уж так испокон веку ведется, что варение жженки являет собой акт некоего отчасти торжественного свойства. Денщики принесли металлический уёмистый сосуд и без сознания важности предстоящего священнодействия поставили его на подносе посередине стола. Усатый майор, многоопытный жженковаритель, скрестил над сосудом два обнаженных сабельных клинка, на середине которых утвердил глыбу сахара и систематически стал обливать эту глыбу прозрачно-золотистым коньяком. Затем в сосуд было всыпано две скрошенные тесемки ванили — и зажженный спирт вспыхнул слабым синеватым пламенем. Кроме ванили — никаких более специй. Огни потушены, спирт разгорается ярче — пламя его начинает забирать свою силу и трепетными языками обвивается вокруг клинков и лижет бока сахарной глыбы; тающий сахар с шипением и легким треском огненными каплями падает в глубину пылающего сосуда. Усатый майор берет бутылку красного вина и осторожно, чтобы не погасить пламени, выливает его, в равном количестве с коньяком, уже не на глыбу, а прямо в сосуд я начинает мешать горящую жидкость большой суповой ложкой. Майор строго знает свое дело и не ошибется, а совершит его в такт и в меру, что называется, с чувством, с толком, с расстановкой и, наконец, со вкусом. Благовонный, горячий чад спиртных паров распространяется по темной комнате и слегка начинает туманить головы. Неровный свет слабого пламени, тускло-синеватыми бликами трепетно перебегая иногда по светлой стали оружия, развешанного по стенам красивыми группами, скользит по ближайшим к вазе предметам и придает мертвенно-бледный, фантастический колорит лицам, тогда как дальние планы комнаты остаются в густом и почти непроницаемом мраке. Состольники как-то притихли, изредка разве перекинется сосед с соседом каким-нибудь словом, но и то лишь вполголоса — все с таким сосредоточенным вниманием следят за действием искусного майора, усатая фигура которого освещается несколько более прочих. Но вот один из нас садится за пианино — и хор подхватывает за ним товарищескую, военную песню про «черных гусар», песню, сложенную на тот угорско-славянский мотив, из которого Франц Лист некогда создал свой известный «Венгерский марш»:
В бой с врагом смерть идет —
Черные гусары!
Но не успели мы еще кончить эту песню, как уже в прихожей послышался топот многочисленных подошв, говор, сморкание, откашливание, продувание инструментов, возня какая-то — и вдруг целый хор наших трубачей дружно и энергично грянул оттуда лихую старопольскую мазурку Хлопицкого. Кто-то подал руку одной из дам — звякнули шпоры, щелкнул каблук — ив тот же миг несколько пар понеслись по темной комнате, вокруг большого стола, за которым усатый майор с невозмутимым и самосознательным спокойствием и серьезностью специалиста продолжал, стоя над пылающей вазой, свершать свое священнодействие. Пары носились по комнате, сшибаясь и сталкиваясь между собой, едва озаряемые слабым синеватым огнем пылающего спирта и бледно-золотистым светом луны, заглядывавшей в окна с высоты ясного неба. При таком двойном и отчасти фантастическом освещении эти, как тени, носящиеся пары походили на каких-то беснующихся призраков из «Шабаша ведьм» или из «Вальпургиевской ночи». Расшитый блестками испанский дебардер Эльсинорской вакхически мелькал, как буря, то здесь, то там по всем концам темной комнаты.
Но вдруг трубачи неожиданно смолкли, разом оборвав мазурку на одной нотке. Кружащиеся пары остановились в полнейшем недоумении на одном из самых горячих моментов своей пляски. Наш адъютант сделал сюрприз, которого в данную минуту мы менее всего ожидали. Через самый краткий промежуток времени, после того как столь внезапно оборвалась лихая музыка, вдруг в тишине всеобщего недоумевающего молчания раздались полные, густые, торжественно мрачные аккорды нашего похоронного марша. Словно бы каким-то леденящим веянием могилы охватили всех эти звуки после горячей бури мазурки. Что-то жуткое и щемящее невольно ущипнуло за сердце каждого. Мы все инстинктивно как-то замолчали и слушали каждый в том положении и на том месте, где его нежданно-негаданно захватили похоронные аккорды. Один только майор над своею вазой оставался по-прежнему невозмутимо спокоен, сосредоточенно и плавно продолжая мешать ложкой пылающую жидкость.
Эффект погребальных звуков при этом прозрачном мраке, трепетно озаряемом двойным светом луны и жженки, был — надо отдать ему должную справедливость — очень хорош именно своею неожиданностью. Но — одна неожиданность вслед за другою, а эту другую сменила третья, и эффект этой последней был еще лучше. Едва замолкли последние, словно бы в глубь могилы уходящие аккорды похоронного марша, как наши трубачи вдруг грянули резко «адский галоп» Оффенбаха, с его бешеным, горячечным темпом, с его рокотом будто бы кипящей адской смолы, с его перебегающими, летучими звуками, которые словно бы чертенята прыгают, скачут, искрятся и толпятся и сшибаются целыми вереницами, одни вслед за другими, в каком-то музыкально-поэтическом хаосе адского фейерверка, поджариваемые на шипящих сковородах всей угарно-веселой кухни Вельзевула.
— Пущено! — весело крикнул кто-то — и наши остановившиеся было пары вновь понеслись по комнате и закружились еще живее в чаду оффенбаховского галопа.
— Жженка готова! Зажигайте свечи! — громко провозгласил майор, бросая на пол горячие клинки.
Комнату осветили. Стаканы наполнились горячим ароматным напитком.
— Ну! Доброго пути! За предстоящий поход, хотя и пустячный, а все-таки выпить надо! — предложил тост мой сожитель.
Выпили и за добрый путь, и за поход, отдавая должную справедливость искусству майора, потому что сваренная им жженка была в своем роде превосходна. Пили потом за полк и полковое товарищество, причем трубачи грянули полковой марш, всегда и неизменно, в силу старого обычая, сопровождающий эти тосты. Время летело весело и потому слишком быстро, так что мы и не заметили, как по соседству на соборной колокольне ударили благовесть к заутрени.
— Эге! Да уже шесть часов, господа! Надо же дать человеку и отдохнуть перед походом! — домекнулся кто-то из товарищей.
— Нашел время для отдыха! — отвечали ему смехом. — Теперь ему разве только чаю выпить, умыться да одеваться в походную форму.
Решили, что спать не стоит ложиться, потому что только хуже размаешь себя. Да оно и точно: когда уж тут спать! Некоторые из товарищей решили проводить меня и эскадрон несколько верст за город, до первого привала. Тотчас же распорядились послать к рейткнехтам приказания, чтобы седлали таких-то и таких-то лошадей и вели их к перевозу. Между тем гостьи наши стали собираться домой. Их одели, укутали, обмотали башлыками и всею компанией пустились провожать на улицу. Заранее вышедшие трубачи, построившись, ждали уже под воротами. Мы усадили наших барынь на извозчиков; иные из наших уселись на передки, другие кое-как примостились на подножках, остальные вокруг и пешком — и вот вся эта процессия с музыкой двинулась шагом до сонному городу, к необычайному изумлению жидков, только что просыпавшихся и продиравших глаза из-под своих бебехов в ожидании гандлов и гешефтов наступающего дня.