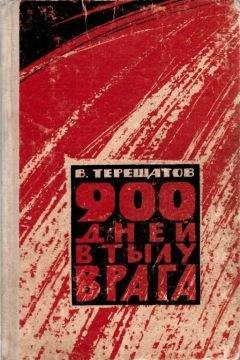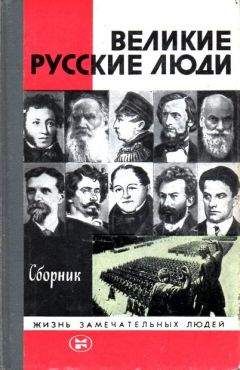Андрей Дугинец - Стоход
— Да что ты ищешь?
— Винтик. Из-за этого гада потерял.
— Оставь ты его.
— Он с гаечкой.
Гриша знал, что винтик с гаечкой для Санька самое большое сокровище, и все же сказал:
— Пошли. Зачем он тебе сейчас?
— Сейчас незачем. А потом пригодится в хозяйстве, — озабоченно ответил Санько. — А ты с дедушкой? Косите?
Гриша загадочно помотал головой и, придвинувшись ближе, прошептал:
— Политикой занимаемся…
Санько в недоумении отодвинулся и даже искать перестал. Но тут оба услышали топот копыт и спрятались за кустами лозы.
Четыре всадника во главе с Барабаком, ломая лозняк, бурей промчались мимо притаившихся ребят.
Топот копыт быстро удалялся. Гриша стоял, оцепенев от ужаса. И вдруг закричал во весь голос:
— Дедушка! Де-душка!
— Что ты! — Санько схватил друга за рукав.
— Дедушку убьют! Дедушка-а-а!
И точно в подтверждение этого опасения, на болоте раздались два выстрела, крики и ругань.
Стремглав бросились друзья на помощь.
— Убили! Убили! — захлебываясь слезами, твердил Гриша, не замечая под ногами ни кочек, ни сучков сухой лозы.
Луна, ни на шаг не отступая от ребят, катилась по белому застывшему озеру тумана. Она видела, как Барабак выстрелил вверх из пистолета, потребовав, чтобы дед отдал топор и лопату, и как потом били старика лопатой до тех пор, пока не переломился черенок, и как четверо здоровенных стражников, повалив деда в грязь, пинали его, а потом, связав, взвалили на коня и увезли. Все это видела побелевшая от ужаса полная июльская луна. Но ребятам, когда они прибежали, она показала только соломенный брыль, плавающий в воде, сломанный черенок лопаты да торчащее из грязи старое блестящее топорище.
Три дня подряд шел мелкий ленивый дождь, переходивший в надоедливую туманную мо́рось. Тяжелое небо опустилось на крыши хат и сараев. Ни утром, ни вечером солнца не было видно, будто оно совсем пропало в холоде и сырости и над миром навеки повисло это тусклое, как залежавшийся свинец, угрюмое небо. Лишь на четвертое утро ветер изменился. Дождь перестал. Небо немножко поднялось, но осталось по-прежнему серым, угрюмым. А с болота во все стороны повалили тяжелые волнистые туманы. Огромными клубами тянулись они по огородам, по улице и закоулкам, взбирались на разбухшие деревянные крыши и там оседали плотными слоями серой плесени, мелкими, как чечевица, грибками на паутинно-тонких ножках, питали собою мхи, разбросанные, как нищенское тряпье, по кровлям бедных покосившихся хат. Куда ни глянь — туман, туман.
Гриша не замечал ни сырости, ни холода, ни тумана. С рассвета до темна сидел на старом плетне против полицейского участка и с тоской смотрел на маленькое окно с решеткой из толстых железных прутьев. Порою в этом оконце появлялись лица арестантов, больше все незнакомых людей. Но ни разу Гриша не увидел дедушку. Может, давно уже умер, да не говорят?
Каждого выходящего из участка полицая Гриша хватал за руки и умолял хоть что-нибудь сказать о дедушке. Не обращая внимания на грубые окрики и подзатыльники, он подолгу бежал за полицаем в надежде услышать хоть слово. И один-таки сжалился, буркнул через плечо:
— Жив твой дед, да только очень плох.
— Жив! Жив! — обрадовался Гриша и стремглав бросился домой поделиться этой вестью с матерью.
На бегу он увидел одноконную подводу, нагруженную домашним скарбом. На вещах с гармошкой в руках сидел кудрявый мальчик лет семи. За подводой, повесив через плечо кнут, ковылял хромой Василь, конюх с панского двора. А следом за ним шли незнакомые мужчина и женщина. Он в широкополой соломенной шляпе и сером полотняном костюме, сшитом по-городскому. Она в простеньком розовом платье.
«Новый учитель! — догадался Гриша, остановившись на середине улицы и рассматривая не столько учителя, сколько гармошку в руках мальчика. — Держит в руках и не играет! — думал с досадой. — Я бы…» — Он вздохнул, не зная, что бы он сделал, попадись ему в руки такая чудесная вещь. Играть-то умел он только на сопелочке… Подвода свернула в проулок и скрылась во дворе Ивана Гири, а Гриша отправился дальше. Но перед глазами долго еще стояла черная гармошка с белыми пуговками…
Во дворе у Козолупов Гриша увидел большую толпу. Мать и сестры Санька плакали во весь голос. Соседки ругались. А два полицая и Барабак стояли на середине двора. В руках у них были железные пожарные крюки на длинных шестах. Глянув вверх, Гриша остолбенел: бледный взлохмаченный Санько сидел на крыше хаты с толстым колом в руках, словно приготовился защищаться от собак.
Черная соломенная крыша хаты напоминала старое прогнившее седло. Середина ее так осела, что дымоход высунулся наружу, как шея Савки Сюська из старого панского жупана. Угол крыши был разворочен, и ветер крутил по двору серую, как зола, мелкую соломенную труху.
— Что случилось? — спросил Гриша товарища и остановился возле плетня подальше от полицейских.
— Раскрыть хотели, — ответил Санько, злобно покосившись на Барабака и Левку Гирю, здоровенного полицая с тяжелой громадной челюстью и холодными, навыкате, белесыми глазами.
— За долги?
— Угу.
— А кровь на плече отчего?
— Барабак зацепил багром.
— Багром с крыши стаскивал? Сдурел! Ты лучше слезь, а то стянут.
— Не-е. Крюк за мою рубашку не держится, старая. — Санько вдруг глянул на улицу и, пригнувшись, сказал так, чтоб никто, кроме Гриши, не слышал. — Пан Суета идет! Видно, к вам. Беги, прячь поросенка!
Гриша умчался…
Пан Суета, а по-настоящему Иаков Шелеп, жил бобылем на квартире у курносой шинкарки Ганночки Зозули.
Веселый, недавно срубленный домик шинкарки стоял в середине Морочны, на перекрестке двух проселочных дорог. В дождь пан Суета обычно сидел дома, играл в карты со своей хозяйкой, попивал самогон, который шинкарка делала лучше всех. А в хорошую погоду он надевал свой ветхий плащ, нахлобучивал шляпу и, взяв неразлучную «черную магию», спозаранку отправлялся на село. Уходя, он всегда говорил:
— Иду, как господь Саваоф, праведный суд творить!
Ходил он медленно и важно, как старый зажившийся аист. Сильно ссутулившись, сосредоточенно смотрел в землю прямо перед собой, словно вечно что-то искал. А может, и правда искал?
Люди говорят, что когда-то был он богат, но хотел стать еще богаче. Продал все свое имение и собрался в Америку, а деньги потерял. И вот с тех пор ходит потупившись, будто ищет свою потерю. Другие шутники утверждают, что пан Суета согнулся под тяжестью собственного носа. Круглый, иссиня-красный нос его и правда весил, пожалуй, не меньше, чем самая переспелая груша в поповском саду. Во всяком случае, согнулся пан Суета не от старости: ему еще нет и пятидесяти. Однако, если человек не так уж стар, почему лицо у него такое морщинистое, словно его целый год держали в крепком уксусе? Не лицо, а сушеная груша. Но толком никто не знает, отчего пан секвестратор так рано согнулся, отчего морщины избороздили его лицо и почему все свои речи он кончает тяжелым вздохом и библейским изречением: «Все в мире суета. Суета сует и томление духа».
Православный поп должен быть с волосами, с усами и бородой. Это закон. Бритый не может быть попом. А Иакову Шелепу пришлось перенести такой позор. Никому из морочан этой истории Шелеп не рассказывал даже спьяну. Но там-то, откуда он приехал, в волынской деревеньке, до сих пор помнят.
Жители Рожищ долгое время обходились без попа, хотя и была у них церквушка. Но однажды прислали им отца Иакова Шелепа. А в селе больше половины крестьян были католиками и, увидев, что православные берут попа, затребовали себе ксендза. Приехал ксендз с бритой, белой, как очищенное яичко, головой. Но ни попа, ни ксендза в церковь люди не пускали: двум медведям в одной берлоге не ужиться. А кого из них оставить в приходе, прихожане никак не могли решить. Наконец высшие духовные власти предложили поставить спорный вопрос на голосование. А пока готовились к этому голосованию, поп-холостяк начал любезничать с молодой служанкой ксендза. Хитрый ксендз сначала даже виду не подавал, что все замечает, а потом с поличным захватил попа в своей квартире. Связал его по рукам и ногам и, не долго думая, обрил. Да не только усы и бороду, но и голову обчистил, как старый огурец. На прощанье еще и одеколончиком спрыснул… Так, говорит, приличнее будет вам идти на голосование. Отец Иаков тут же бежал из села. Забрался в болотную глушь и нанялся секвестратором к графу Жестовскому. Хотел пробыть здесь до тех пор, пока не отрастут борода и волосы. Но постепенно привык к курносой, веселой шинкарке, которая платы за квартиру не брала да еще и самогоном поила, только живи.
Сначала Шелеп все же надеялся, что ему будет возвращен сан священника. И для поддержания в себе духа святого пел на клиросе. Но потом совсем порвал с православной церковью, перешел к мурашковцам[7]. И еще чаще стал беседовать с мужиками о близости второго пришествия Христа, о необходимости мириться со всеми житейскими невзгодами, ибо «все в мире суета сует и томление духа». За это и прозвали его паном Суетой.