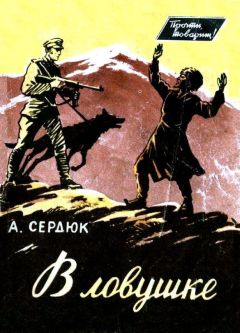Александр Сердюк - Визит в абвер
— А написано следующее, — произнес Борцов, готовясь прочесть. — «Национал Социалистише Партия». Выпукло так, броско. В середине круга, как видите, свастика… Вот ведь кто хлестнул вам автоматной очередью… Фашист. Натуральный.
— Остальные побрякушки тоже со свастикой, только без надписей. Что это? — спросил сержант, передавая их Борцову.
Офицер, не слишком внимательно рассматривая эту известную ему символику, пару раз взглянул на Корнеева.
— Птицу вы подстрелили не простую, — сказал он с явным одобрением. — Одна из этих побрякушек — Железный Крест второй степени, другая — Знак отличного стрелка… Видите, кто отстал от фронта, кому еще повоевать с нами захотелось. Вы обыскали его? Все прощупали, у него что-нибудь было?
— Тетрадь… Общая, в коленкоровом переплете. Правда, вся измусоленная, — Корнеев встряхнул сумку.
— Дневничок, что ли?
— Похоже. Немецким-то я малость владею. Пока ехали, полистал.
— И что в нем?
— Жизнеописание, так сказать. Про войну.
— Пожалуй, это любопытно, — сказал Борцов, брезгливо поморщившись. — Посмотрю.
— Ну а как с оружием быть? — спросил Корнеев, обращаясь уже к начальнику заставы.
— Автомат сдайте старшине, — распорядился капитан. — Предварительно почистите и смажьте.
— Слушаюсь.
— Да не тяните с этим, скоро выступать…
Сержант и не подозревал, какую ценность для контрразведчика представляла эта толстая, в надежном переплете тетрадь, исписанная аккуратным, разборчивым почерком. Ее владельцем, согласно имевшемуся автографу, был лейтенант Руммер. Из дневника следовало также, что Руммер попал на фронт в первый день войны, советскую границу перешел рядовым солдатом. Оказавшие отчаянное сопротивление пограничники подстрелили его взводного, командира, а самого Руммера ранили в ногу выше колена. К счастью, пуля не задела кость и лечиться пришлось недолго. После возвращения в часть Руммеру присвоили звание ефрейтора.
Его жизнь на войне так и текла: от ранения к ранению, от звания к званию. Правда, выше обер-лейтенанта покойный подняться не смог, да уже и не сможет.
Борцов наспех, пока еще не вчитываясь, листал тетрадь, останавливая внимание лишь на страницах, где Руммер фиксировал перемены в своей служебной карьере. Шла уже вторая половина 1943 года.
«22 июня. Наш батальон принял новый командир. От прежнего даже мокрого места не осталось: угодил под русскую "катюшу"!
23 июля. Новый командир, майор по званию, неожиданно оказал мне честь — назначил своим адъютантом. Правда, со мной он не очень откровенен. Вчера вечером писал кому-то письмо и не подпускал к себе ни на шаг. Зовут его Манфред Броднер…
19 августа. Сегодня комбат впервые похвалил меня за самообладание: рядом с блиндажом рванула русская фугаска, но я даже не вздрогнул. Майор пожелал узнать, ждет ли кто меня в Германии. Приятно удивился, когда я сказал, что у меня двое детей — сын и дочь. Ему очень понравилось имя жены: Эльза. У самого, оказывается, тоже сын и дочь, только постарше моих. По семье очень скучает.
27 декабря. Новый год встречаю в блиндаже. Бои на время поутихли. Отсиживаемся в лесу. Здесь глубокий снег и адский мороз. Командиру присвоили звание подполковника. Он хотя и обрадовался, но, как я заметил, что-то не слишком. Почему?
Сегодня подполковник похвально отозвался о рядовых солдатах. Поразило его неожиданное замечание: "Надо только умно командовать ими". Кого он имел в виду?»
Зимние записи Руммера однообразны и скучны. Боевых дел никаких. Его интересуют лишь перемены в судьбах сослуживцев: очередные звания, повышения и понижения в должности, переводы в другие части. Броднер растет. Бывает же так: долгое время его словно бы не замечали — и вдруг столько чести. Послали на какие-то престижные курсы, после возвращения тут же перевели в штаб дивизии. И не куда-нибудь, а в отдел «Один-Ц». Разведка! С тех пор Руммер и Броднер долго не встречались. Все-таки большая разница в их служебном положении, да и люди они, оказывается, разные. Наверное, так и не встретились бы, если бы батальону, в котором оставался Руммер, не поручили охрану штаба дивизии.
Приближалась весна. Лейтенант возлагал на нее все свои надежды. Ему верилось, что, смягчатся морозы, германская армия опять перейдет в наступление. По всему фронту. «Как прекрасно чувствуешь себя, когда наступаешь! Бьешь и в хвост и в гриву русских, продвигаешься все дальше на восток, захватываешь так нужные нашему рейху земли. Только бы больше не отступать. Покорить Россию и никогда не уходить из нее. Но вот уже и весна, а перемен на фронте нет.
…Июль. Майн гот, что творится! В наступление перешли русские, — фиксирует в дневнике Руммер. — Они теснят нас справа и слева. Они загоняют нас в "котлы". Неужели и я окажусь в одном из них? Управление войсками дезорганизовано. Все смешалось — и штабы, и тылы. Разве нами уже никто не командует? Отхожу вместе с Манфредом Броднером. Он уже полковник, легко контужен. По старой памяти поручил мне таскать свой портфель, набитый какими-то бумагами. Меня предупреждал: "Бумаги конфиденциальны"».
Борцов листал уже последние страницы.
«5 июля. Форсировали речушку с топкими заболоченными берегами. Невыносимо тяжело, и не только физически. Солдаты, да и многие офицеры (только не я!) пали духом. Эти вояки уже ни на что не способны. Какие же они арийцы! По сильно заболоченной местности за сутки отошли на три километра. Наши ряды продолжают редеть. Куда они уходят? Неужели к русским? Позор! Сегодня Броднер (он уже стал начальником отдела и полковником) предложил мне впредь постоянно находиться при нем. Зачем? Таскать все тот же портфель с тайнами дивизионной разведки? Кому они теперь нужны? Лично я все эти бумажки сжег бы на первом костре.
Что пуще всего нам надо сейчас хранить? Конечно же наш воинский дух. Утратишь его — значит утратишь все. Мы, немцы, способны были на такие подвиги! Нам покорилась вся Европа… Об этом же надо не забывать. Помнить и — сражаться! Только сражаться!
7 июля. Отдых на болоте. Раздали остаток продуктов. Полковник мрачнее тучи, ни с кем не разговаривает. Исключение, и то в редких случаях, делал мне и дивизионному доктору Шульце. В двадцать ноль-ноль идем дальше.
8 июля. Отдых в лесу. Чуть было не забыл в ельнике портфель. Когда вспомнил о нем — Броднер ужасно побледнел.
9 июля. Сегодня к полковнику, неожиданно для меня и доктора, прибыл какой-то разведчик в звании гауптмана. Имя не афиширует. Лишь после его отбытия Броднер шепнул мне: "Работает в русском тылу". В подобных случаях лишних вопросов не задают.
10 июля. Над нами кружил русский самолет, разбросал листовки. О, ужас! Доктор подхватил одну из них и стал читать вслух. Оказывается, командование Красной армии предлагает нам прекратить сопротивление и сдаться. Неужели согласимся? Лично я ни за что!
15 июля. Нас внезапно обстреляли. Не партизаны ли? Отвечать огнем полковник запретил. Мы втроем отползли в кусты. Я прилег поближе к Броднеру, вдруг вижу: расстегивает кобуру, достает браунинг. Зачем? Стрелять? Но в кого? Рука полковника дрогнула, затем стала твердой. И он начал медленно поворачивать ствол к правому виску. "Господин полковник!" — вскрикнул я, а доктор вцепился в его руку. Прогремел выстрел, но пуля только обожгла висок.
После случившегося Броднер заявил, что дальше он не пойдет. Доктор поспешил присоединиться к нему, сказав, что раненого офицера вермахта на произвол судьбы не оставит. Итак, я окончательно убедился — да, да, окончательно! — среди этих штабников партнера мне не найти!
16 июля. Лежим возле картофельного поля. Вдали виднеются какие-то озера. Я прополз метров двести и, не обнаружив партизан, принялся рыть картофель. Надо же хоть чуть-чуть подкрепить свои иссякающие силы, быть может, еще пригодятся.
Ночью пришла в голову мысль: должен ли я и дальше связывать свою судьбу с людьми, которых больше не ценю и не уважаю? Мой бывший командир едва не покончил с собой, а ведь еще недавно он был воплощением мужества и воли. Что с ним сталось? Доктора я знаю меньше, но за последние дни и его словно подменили. Тоже мне арийцы! Германии эти люди больше не нужны. Пусть остаются здесь, в этих дебрях. Пусть их растерзают волки — слезу не пролью. Их песенка спета, мне это совершенно ясно. Ну а моя? Какая мне уготована участь? Неужели, подобно им, уйду с поля битвы? Ни за что! Офицеру, верой и правдой служившему фюреру, надо продолжать сражаться. Даже если окажусь в русском тылу, я должен сражаться. Должен. Хайль Гитлер!»
Больше лейтенант Руммер не сделал ни одной записи.
— Ну, наконец-то! — воскликнул начальник заставы, едва Борцов долистал тетрадь. — Нам же дорога каждая минута. Столько времени потеряли!
— Вы так полагаете? — майор укоризненно покачал головой. — Почему потеряли?
— А то как же… Сперва из-за той фашистской вражины, а потом из-за его мерзкого сочинения. Небось, сплошная порнуха, они это любят… Для нас же время — золото.