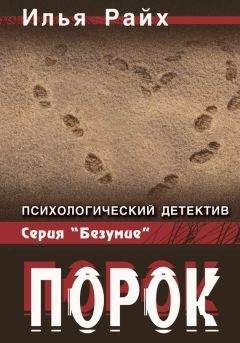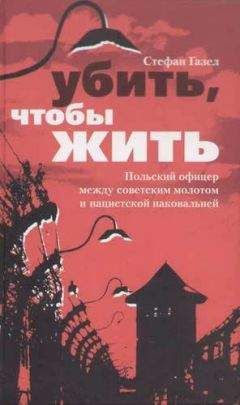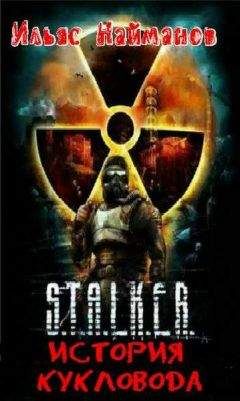Максим Бутченко - Три часа без войны
На брюках виднелась стрелка. А если точнее, это была разделительная полоса, проведенная сотни раз утюгом. Казалось, до конца жизни ничто не сможет сломать эту прямую и несгибаемую линию на ткани.
На туфлях заметны остатки обувного крема. Кое-где кожаная поверхность, натертая до блеска, отражала мир в своем искаженном отображении. И поди разберись, какой мир на самом деле: такой, как мы его чувственно осознаем, осязаем, видим глазами и слышим ушами, или, может быть, мир по-настоящему другой — искривленный в блестящей коже, уродливый и красивый одновременно.
В общем, дедушка выглядел потрепанным, но опрятным. Можно было предположить, что это преподаватель истории, давно вышедший на пенсию, вдруг решивший посетить СИЗО, чтобы направить заблудшие души на путь истинный и чистый. И только две детали портили общее впечатление — рваный носок, оказавшийся не в паре с другим носком ни по цвету, ни по количеству дыр, и яркое, свежее, едва засохшее кровавое пятно, расплывшееся на половину левой стороны пиджака.
— Никитич, ну ты красавец, канешна, — подключился Лёха и тут же съязвил: — Только вот че ты здесь оказался, а не в доме престарелых?
Дед повернулся к вопрошающему с таинственной ухмылкой, а потом подсел к нему и, как обычно, громко сказал:
— Веришь, сынок, бес попутал.
А попутал бес Никитича так. Однажды, когда ему исполнилось семьдесят лет, вышел он на крыльцо своего дома в небольшом, на полторы тысячи домов, луганском селе Большекаменка. При въезде в поселок возвышалось заброшенное здание. Серый с синюшными переливами некрашеный деревянный забор: ограда почти рухнула, по краям двора осталась пятерня досок, на которых, будто от холода на пальцах, проявлялась бледная синева. Дальше — маленький пруд, а справа от него хатенка, на крыше — потрескавшийся шифер, ставший от времени светло-бежевым с нотками желтизны, выбитые окна с торчащими остатками стекол, как прогнившие зубы старика, да покореженные железные ржаво-красноватые двери. В доме когда-то жил дед-шахтер, да спился под конец жизни, запустил себя и хозяйство. А потом, как бывает в селе, угорел: в угольной печи забились проходы (кирпич выпал) — и печная гарь заполнила дом. Задохнулся несчастный. И было тому погорельцу ровно 70 лет, прям как тогда Никитичу.
Итак, Никитич вышел во двор, а у ног крутился пушистый котяра со слипшимися патлами, которого, как и положено в селе, звали Венька. Всех котов в доме деда звали Веньками. Откуда взялось это имя? Вероятно, кто-то из дальних предков котяры был похож на веник — такой же рыжий, почти желтый. Или, может быть, родичей кота звали Вонька, потому что уж очень они воняли: любили поваляться зимой в тепле, в свинарнике. Как бы то ни было, кот терся о ноги Петра Никитича, как нечто вечное, постоянно перерождающееся, — признак неизменности среди затхлой сельской бренности.
— Слышь, Маруся, а помнишь погорельца? Вот, думаю о нем, — поделился дед мыслями с женой.
Та вышла во двор, вытирая руки, испачканные в муке, о фартук. Маруся — женщина лет шестидесяти пяти. Когда ей стукнуло двадцать два года, она пошла работать на шахту бухгалтером. Тогда-то и заприметил ее молоденький парень из отдела статистики.
— А я пухлая в теле была, прям загляденье. Лицо румяное, коса до пояса, — рассказывала она о себе бабкам-соседкам. И обычно после этих слов глубоко и грустно вздыхала. В каждом кубическом сантиметре выдоха — неисчислимый объем сожаления: по утраченной юности, жизни, которая, как муха, что назойливо крутилась вокруг, да неминуемой осенью засохла под оконным стеклом.
— Человек наблюдает за собой как бы со стороны, но не видит себя и проживает задарма жизнь, — рассуждала бабуля о прошедших годах.
А прожила она с Петром жизнь вполне себе простую и невыразительную. Двое детей, трое внуков. Все пристроены — в городе. Дед в юности за ней ухаживал: жили они в разных селах, так он ходил пешком по пятнадцать километров, высматривал ее в окне, кидал камушки.
— Иногда приходит ко мне, извещает о своем присутствии — камешки кидает в окно и стук, стук по стеклу. Как по сердцу, я слышу звон, а сама вся почти дрожу, — говорила она соседке Нюре, а та послушно кивала головой.
А что сейчас? Маруся утром встала, кур, гусей покормила, растопила печь в летней кухоньке, свинье жрать поставила, а дед пока возится со своими кроликами. Вот вчера пятеро дохлых достал из клетки: мрут кроли, сволочи, как мухи. Как вышли на пенсию, всего и делов-то — внучков ждать да животинку кормить.
— Жизнь пуста, как пуста луна, — любила говорить Маруся, а затем утирала платком лицо, покрытое сетью извилистых, как паутина, морщин.
А Петро вспомнил, как, бывало, придет к ее дому, смотрит в окно, а она мелькает там тенью, да только большущий откормленный кот сидит перед стеклом, и маячит, хвостом нервно подергивает, важничает — закрывает весь вид.
— Вот паскуда мохнатая, шоб ты провалился, гад, — бормотал Петя и смотрел по сторонам, чем бы запустить в ленивое животное.
Под рукой, как назло, ничего не было, кроме полена, которое, казалось, приросло к ограде, еще чуть-чуть — и пустит корни. Пётр в сердцах трехэтажным обкладывал наглого кота, но тот смотрел на него довольным и вызывающим взглядом: мол, что ты, человечек, мне сделаешь. А потом подмигивал слегка косым правым глазом.
— Ах ты, подлюка, глазки мне еще строит, решил поиздеваться по полной, — негодовал Пётр.
Он наклонился, пошарил по земле, нащупал пару камней и, прицелившись, кинул в кайфующее животное. Камни полетели точно в цель — испуганный кот дал деру, а напоследок жалобно протянул пару проклятий на своем кошачьем языке. О, смотри, и Маруська выглянула!
Когда появился первый ребенок, Петру как раз исполнилось тридцать лет.
— 1 и 30! Это ведь красиво, — говорил он традиционному коту Веньке, который терся о ноги хозяина и безразлично мурчал. Любил Пётр круглые и понятные числа.
А когда оставалось два года до тридцати пяти, он решил завести второго ребенка, мол, эти две цифры отлично смотрятся на фоне друг друга. Сказано — сделано.
Первый сын женился, и Никитич заговорил о внуке. Так к пятидесяти годам появился первый внук, а к семидесяти — уже трое. В общем, круглые цифры возбуждали Петра не хуже красотки по телевизору в передаче для тех, кому за восемнадцать.
Но в старости окутала деда своим клетчатым одеялом печаль. Все свои символы он исчерпал, а на душе скреблись мыши, к которым нынешний Веня был равнодушен, а только заглядывал в глаза хозяина, пытаясь вызвать жалость к себе, одинокому волосатому сиротинушке.
И вот в свой день рождения Петя вспомнил об угоревшем деде-шахтере.
— Так ты помнишь погорельца? — еще раз спросил Никитич Маруську.
— Да что ты заладил? Помню я его. Лет семь всего-то прошло, как помер. Волочил старикан левую клешню, говорил, на войне воевал. Герой, который нуждается в ласке. Врал, паскуда, а вон Нюра повелась, — ответила жена.
И, не вдаваясь в подробности, что же там случилось с Нюркой, собралась обратно в дом.
— Ага, ага. Повелась, отдалась, — пробормотал дед и запустил руку в седую бороду, как будто в снопе выцветшей пшеницы искал остатки зерен.
Кстати, об этой роскошной бороде у Никитича есть длинная и незабываемая история. Если хватит времени, он успеет ее поведать арестантам. А пока его рассказ застрял на треклятом коте и погорельце. После того как бабуля не проявила интереса к вопросам деда и зашла в дом, тот незаметно вышел со двора.
До конца жизни Маруся, а в миру Мария Александровна, будет жалеть, что торопилась тогда на кухню. Слышно было, что на плите что-то подгорало, тесто нужно было осадить, да и на вечер вечно голодному кабану ничего не сварено. Впрочем, весь этот список бытовых дел ни в коей мере не послужил бы ей оправданием перед своей же совестью: не доглядела, суетилась и проч. Как через полгода в местной тесной церквушке говорил ей толстенький круглолицый батюшка с редкой черненькой бородкой: «Не признала ты Христа в нищем, Маруся. Не увидела ран от гвоздей на его руках, не служила мужу, как положено добропорядочной христианке».
Умывалась она слезами, да все поздно — время-то не вернуть: деда в тот трагический день проглотил проем калитки, словно его и не было. Ушел из дома. С того утра и начинаются похождения Петра Никитича.
А задумал он их давно. Первым делом начал собирать деньги, по копеечке откладывая в длинные растянутые женские колготки, которые висели на чердаке, — в былые дни там сушились лук да кочаны кукурузы. Забирался Пётр по хилой шатающейся деревянной, выкрашенной в мертво-серый цвет, лестнице на чердак, крестил, как мог — и голову, и пузо. И мужские причиндалы осенял на всякий случай крестным знамением — они хоть и работали со сбоем, как незаряженное ружье, раз в году, но жалко все-таки: вдруг в хозяйстве пригодятся.