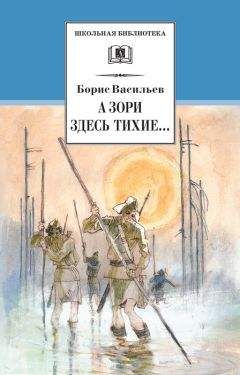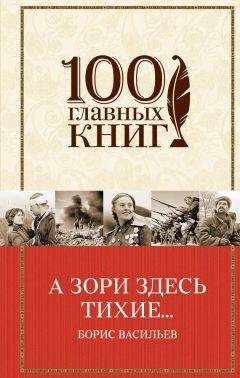Марина Чечнева - «Ласточки» над фронтом
Раскова посмотрела на листок календаря. 14 марта 1942 года… Вспомнила маму, дочурку. Нет, сегодня нужно написать письма. Во что бы то ни стало. Завтра опять не соберешься.
Отложив в сторону бумаги, она пододвинула чернильницу.
«Пользуюсь тем, что имею десять свободных минут, чтобы написать тебе. Если сейчас не напишу, то, может быть, недели две не смогу сесть за письменный стол… Я вполне здорова, работаю хотя и без отдыха, но с большим интересом…»
Не много сохранилось этих писем. Как не много их было и написано.
2 апреля 1942 года: «…У нас испортилась погода. Два дня стояла такая пурга, что в 5 метрах не было видно человека. При этом ветер достигал силы 20 метров в секунду. Это настоящий шторм! Ломало крыши, поломало дверь в мой ангар. Хлопот было много. Необходимо было сохранить все свои самолеты — и в ангарах, и стоящие просто на поле. Это стоило большого труда, но все обошлось благополучно: все наши чудесные самолеты целы.
Правда, когда пурга стихла, все мы были похожи на чучел, так как наша одежда была покрыта коркой льда, а когда лед растаял, то все было мокрое, хоть выжимай. Еле-еле успевали высушиться и снова сменяли тех, кто уже обледеневал, защищая от стихии самолеты. Сделав небольшую передышку, пурга замела снова. Но за это время мы уже успели кое-что укрепить, и новая пурга принесла нам меньше хлопот.
Мой народ показал себя замечательно. В пурге пробирались они к стоянкам самолетов в тесном строю, держа направление по компасу, так как ничего не было видно. Это был хороший экзамен и для них и для меня…»
15 мая 1942 года: «…Наша жизнь прекрасна великой, исторической героикой. Какие подвиги способен совершить наш народ и какой единой волей в борьбе за свое счастье и свободу спаян весь наш великий Союз! Люди сейчас на глазах растут во всем своем величии. Ты не узнала бы нашего Рому! За эти десять месяцев войны он стал более взрослым, чем за все годы своей жизни. Настоящая душа и сердце русского советского человека определились для него самого ясно только теперь. Он сам сказал мне в Москве, в последний мой прилет туда, что теперь самое сильное его желание — стать коммунистом, членом партии. Я горжусь тем, что Рома в суровые дни войны понял это, и понял сердцем. Многое, что казалось прежде важным, стало теперь ничего не значащим, просто пустяками. На чем спать, как быть одетым, что есть, что пить — все это не играет ровно никакой роли в жизни. Цель одна — как можно больше принести пользы в деле освобождения нашей земли, в деле священной войны с фашизмом не на жизнь, а на смерть… Главное, что все мы твердо верим в свою победу. Нам ничего не жаль для окончательного боя за нашу свободу. Кто в это верит, тот перенесет любые трудности, выйдет победителем.
Мечтаю прилететь к вам в конце мая. Хорошо было бы попасть на Танюшино рождение. Но так точно угадать трудно. Если я к 29 мая не прилечу, когда будешь ее поздравлять утром, то поздравь и от меня и крепко-крепко поцелуй. Я так без нее скучаю, но стараюсь об этом не писать, чтобы она не скучала. Потерпи еще немного, моя родная, скоро мы заживем снова мирной жизнью. Будем быстро восстанавливать былую жизнь в своей стране. И ты с Танюшей вернешься в нашу родную Москву, в которой будет ярко гореть свет. И в этот радостный день мы все снова помолодеем на десяток лет…
Обо мне не беспокойтесь, у меня дела идут хорошо…»
«…Сегодня у меня вдвойне радостный день: я вылетела самостоятельно на самом современном скоростном пикирующем бомбардировщике, двухмоторном. Самолет изумителен, скорость огромная, вооружен прекрасным оружием. Ни один фриц не уйдет от меня! Мой вылет начальством оценен на отлично.
И вот после такой радости пришла я в штаб и застала твое письмо, доброе, ласковое, с поздравлением за прошлый вылет. Это чудесное совпадение! Пока до тебя дошло письмо и ты ответила, я уже вылетела на новом самолете, на более сложном и совершенном…»
Жизнь многих из нас, кого коснулись участие, совет, дружба Марины Расковой, сложилась иначе, чем она могла бы сложиться.
— Скольким дала она крылья! — невзначай сказала моя боевая подруга Оля Голубева, рассматривая портрет Расковой. — Вот ее уже нет. А ведь без нее немыслимы наши биографии и судьбы…
Всякий раз, приезжая в Москву, Оля звонит мне по телефону, и мы непременно встречаемся. Мы знаем друг друга с войны, но нам всегда не хватает времени, чтобы наговориться. И в моей жизни, и в Олиной, всех боевых подруг Марина Михайловна Раскова оставила неизгладимый след. Можно сказать, сделала, вылепила их — наши жизни…
Раскова умела увидеть в человеке основное. А главное, понимала мечту. Ведь она сама была из крылатого племени мечтателей.
Разве до лирических подробностей было в том огненном сорок первом? Тем более Расковой, на плечи которой легли важнейшие правительственные задания!
Может быть, она, встречаясь с нами, совсем еще юными девчонками, у которых, кроме мечты о небе и решимости бить врага, не было за душой ничего, вспоминала свою юность? Может быть! Только никто не уходил от нее без совета и помощи.
В сорок первом Оля Голубева и ее подруга Лида Лаврентьева разыскали часть Расковой, хоть это и было не просто. Оля уже не думала о кино — до войны она мечтала стать киноактрисой. Какое там кино, когда Родина в огне! Когда истекает кровью Украина, Белоруссия, Смоленщина.
В ожидании приема Оля познакомилась с летчицей Дусей Носаль и откровенно призналась ей, что, собственно говоря, она не имеет никакой надежды быть принятой в авиачасть, так как ничего не смыслит в авиации.
— А ты скажи, что знаешь электричество, нам как раз электрики нужны, подала совет Носаль.
— Ладно, будь что будет, лишь бы приняли…
В кабинет Расковой Голубева и Лаврентьева вошли вместе.
— Мы очень хотим летать! — в один голос выпалили обе.
— Я окончила аэроклуб в Средней Азии, — сообщила Лида.
— Ну а вы кто? — обратилась Раскова к Ольге.
— Я? — смутилась та. — Голубева Ольга, из Тобольска… Училась в Москве, в институте кинематографии, добровольно пошла в армию…
— Ну а с авиацией вы знакомы? — спросила Марина Михайловна. — Что вы умеете делать?
— Ничего, — упавшим голосом призналась Оля. И, боясь, что дальнейший разговор с ней будет коротким, торопливо добавила: — Почти ничего… Вот петь могу, плясать умею, стихи читаю неплохо… И электричество хорошо знаю. В школе по физике пятерки получала!
Марина Михайловна засмеялась:
— Ах, девчонки, девчонки. Ну что ж мне с вами делать?! Ладно…
И нашла выход. Лиду Лаврентьеву зачислили штурманом, а Олю Голубеву назначили мастером по электрооборудованию.
А потом… Ольга окончила курсы, стала штурманом.
Раскова поставила перед Олей нелегкую цель. Не прощала ни единой ошибки. Но и никогда не упускала ее из виду и во всем помогала ей. И хоть штурманом Оля стала уже после гибели Марины Михайловны, именно она помогла Оле добиться своего…
Я сказала: гибели. Но до сих пор не могу примириться со смертью Марины Михайловны.
В день нашего вылета на фронт майор Раскова не пошла к трибуне, а вышла из-за стола, покрытого кумачом, поближе к рампе, к аудитории.
Негромко говорила о беде, нависшей над нашей страной, о том, что наш долг — жестоко отомстить врагу, призывала нас совершенствовать боевую выучку, овладевать техникой боя…
— Свою преданность Родине вы доказали в учебе, — говорила она. — А теперь докажите ее в бою. Это будет потруднее. Но я уверена, вы справитесь с любыми заданиями и со временем обязательно станете гвардейцами…
Мы вылетели на фронт. Но Марина Михайловна ещё не оставила нас. Полетела вместе с нами, чтобы лично познакомиться с воздушной армией, в которую был назначен наш полк.
* * *В письме от 25 мая 1942 года, которое она писала с аэродрома под станцией Морозовской, лидируя наш полк, Марина Михайловна сообщала начальнику штаба авиаполка пикирующих бомбардировщиков Милице Александровне Казариновой:
«…Долетели мы сюда благополучно, все в полном составе. Нужно сказать, что девчатам досталось крепко, но они молодцы — сдали экзамен. Строй провели сквозь узкий коридор между двумя грозовыми башнями. Около 30 минут шли в дожде. Но все девчата справились… В Кумысолечебнице аэродрома никакого нет. Просто поле… Привезли на всех нас всего 700 килограммов бензина… Горючее пришлось ведрами делить поровну. Еле удалось сделать так, чтобы у всех было по 50 килограммов. С этим горючим нужно было „топать“ в Сталинград. Ночью нам приказали входить в Сталинград через входные ворота, а это еще удлиняло путь. Поэтому этот отрезок переживали мы с Дусей (Е. Д. Бершанская — М. Ч.) крепко… Горючего хватило, но в баках осталось по 4–6 килограммов, а у Себровой над аэродромом остановился винт, но села она благополучно.
* * *…Из Сталинграда вылетели под прикрытием „чаек“. Они нас провожали долго, так как „яки“ в это время „играли“ с „мессерами“ за облаками. Пришлось всех тащить бреющим. При этом были встречный ветер и жуткая болтанка. Досталось народу крепко. Даже Амосовой пришлось натереть мозоли. Перед Морозовской нас снова встретили „чайки“ и прикрывали нашу посадку… Здесь мы уже на территории фронта. Народ так утомился, что не пошли ужинать, спали как убитые… Вообще девчат не узнать. Все вдруг стали военными, чего нельзя было о них сказать ранее. Такие стали быстрые, серьезные, дружные. Хороший народ. Провожу их до самого места, а тогда полечу в Москву…»