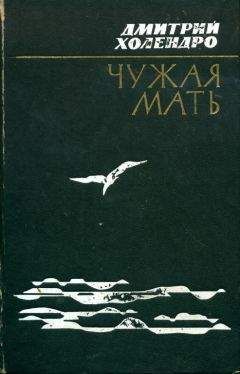Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]
Лидия Сапожникова (г. Киев).
«Рассказ («Без единого слова». — И. К.) небольшой, но столько в нем сказано. О любви. Любви настоящей, самоотверженной, до боли щемящей своей бескорыстностью.
Три случайные встречи автора на бесчисленных фронтовых дорогах.
Встречи с людьми, которым хочется просто поклониться. За любовь. За то, что ни кровь, ни смерть, ни страдания не смогли своей жестокостью вытравить из сердца светлое, трепетное чувство. Любовь…
Какой она должна быть у хрупкой голубоглазой девушки, отправившейся в безрассудное путешествие к линии фронта, к передовой с одной лишь мыслью — увидеть своего любимого. Не красавца, не героя, просто рядового воина. Этот поступок сродни подвигу. Подвигу во имя любви…»
М. Лемешева (адрес не указан).
Подобные письма — лучшее свидетельство того, что у Дмитрия Холендро широкий, заинтересованный в его творчестве читатель. Заинтересованный прежде всего в героях автора, человека активной жизненной позиции, добрых дел и открытого сердца.
И. Козлов
Повести
Пушка
Я был артиллеристом. Когда? Вчера. Вовсе я и не собирался быть им, уже два месяца ходил на литфак знаменитого института, о котором мечтали многие молодые москвичи с душой гуманитарного склада. Кирпичный корпус нашего института краснел в лесу, среди старых, взмывающих под самое небо сосен. Метро обрывалось далеко отсюда, к заветному переулку тащился трамвай, и опоздавшие студенты прогуливали первые лекции. Опаздывали не только мальчишки, но и девушки, живущие в разных концах столицы, и под соснами по загородным дорожкам, поросшим травой и усыпанным толстой хвоей, прогуливались обычно парочками.
Вот это было давно. В той юности, когда мы, не успев как следует передохнуть после недавней школы, сразу пришли в институт.
А скоро мальчишек призвали в армию. Ехали на лекцию, а попали на собрание. Святой долг… Все, как один… Не сразу вошла в сознание неотвратимость больших перемен, раньше обрадовало освобождение от близкой сессии. Странная легкость игры была во всем, даже в эффекте самой этой новости.
— Мама! Я ухожу в армию.
— Когда, Костя?
— Этими днями.
Наши кудри покрыли полы парикмахерских, их вымели стертыми вениками, и помнится, как совсем незнакомый старик на улице посмотрел на мою остриженную голову и спросил:
— На службу?
— Ага…
— Веселей! — сказал он. — Служить надо легко. А то спичка бревном покажется.
Добрый прохожий, он был прав, но почему-то именно от его заботливого предостережения впервые кольнуло в сердце.
Но это тоже было давно.
А в казарме я просыпался вчера, совал ноги в сапоги, прыгал по лестнице, спешил наперегонки с друзьями в сумрак утра. Я равнялся на грудь четвертого, пряча зевоту и ерзая подошвами по земле, а стриженый затылок замирал от леденящего ветерка и напряжения. Моим четвертым был долговязый Эдька Музырь, и я сам был чьим-то четвертым…
Мы стояли в нижних рубахах летом и зимой, мы закалялись, выбегая с рассветами на зарядку.
— Вдох! Выдох! — кричал старшина Примак, и мы дышали по команде.
Вчера я писал маме: «Пришли мне, пожалуйста, халвы…»
Московской халвы с орехами. Ее продавали недалеко от дома, по дороге в библиотеку-читальню имени Толстого, где просижено столько долгих и незаметных вечеров. Синие галки за окнами сливались с небом, зажигались уличные фонари… А подальше была почта, откуда мама отправляла посылки, неумело забивая гвоздики в ящик, всегда вкось, так что острые кончики их обязательно вылезали из боковых стенок, и я боялся, не оцарапала ли она себе руки. Пальцы не слушались ее из-за старого ревматизма: пока обстирает шестерых детей — часами руки в воде. Теперь нас стало меньше вокруг нее. Дети растут долго, а уходят быстро…
Из разных мест на адрес, спрятанный под номером почты, присылали мармелад, колбасу, клюквенное варенье в банках, пряники на меду — блестки лакомств, украшающих могучую каждодневность гороховых супов и пшенных каш. Посылки прибывали раз в пять дней, по строгому расписанию, составленному нами с учетом расстояний от Москвы, от среднерусской речки Цны, от деревни Манухино в ржаных полях…
Вчера мы выворачивали ящики на голый стол, всем расчетом первого орудия третьей батареи садились вокруг и съедали очередные гостинцы в один присест.
Правда, никогда не садился с нами Федор Лушин, хотя изредка брал увольнительную за посылкой и приносил с почты фанерный ящик, перевязанный шпагатом с сургучными печатями. Федор аккуратно поддевал крышку лезвием грубого карманного ножа и прятал содержимое в головах под матрас. Он молчал, его никто не трогал, кроме Эдьки Музыря, который пересчитывал нас за столом, охватывая глазами посылочные дары и тыча в грудь каждого длинным и острым пальцем. Вдруг он останавливался и вопил:
— Опять нет этого жмота Лушина?
Эдька срывался и бежал искать Федора, а если находил, то орал на всю казарму:
— Жмот! Иди живо за стол! Держи свое дерьмо под подушкой, а с нами садись, пируй! Не омрачай души беспечной!
Мы вразумляли Эдьку, чтобы он оставил Лушина в покое, но Эдька не вразумлялся, и хозяин перочинного ножа Сапрыкин заключал коротко и бесповоротно:
— Псих.
Эдька, конечно, был известным психом, но, если бы не индивидуализм Лушина, мы могли бы лакомиться чаще. Нас было в орудийном расчете восемь душ. Замковый Эдька Музырь, заряжающий Толя Калинкин, подносчик снарядов Саша Ганичев, правильный Федор Лушин, три ездовых — коренник Григорий Сапрыкин, средний вынос — Веня Якубович, передний вынос — Семен Агейко. Ну, и я — наводчик Константин Прохоров.
Наводчик гаубицы — это неожиданно стало моим первым обязательным делом в жизни, моей первой профессией.
— Прицел… Уровень…
Я крутил маховички прицельного механизма, поднимая и поворачивая тяжелый ствол и прильнув глазом к окуляру панорамы, опоясанному круглой резинкой.
До сих пор я знал, что панорама — это вид на местность, лежащую перед глазами. Или грандиозное живописное полотно на стенах круглого здания с театральными фигурами и пристройками вроде декораций, воскрешающее чаще всего картины памятных сражений. Панорама Севастопольской обороны, например, о которой я читал мальчишкой…
Но теперь-то я знаю, что панорама — это оптический прибор, вроде маленького перископа, который вставляется в специальную корзинку на прицельном механизме орудия и служит для наводки. В окуляре видны перекрестья и цифры, помогающие мне выполнить команду и прицелиться, пока Саша Ганичев поднесет снаряд, Толя Калинкин подхватит его своими руками и пошлет в ствол, Эдька Музырь захлопнет замок, я наведу орудие, доложу: «Готово!» — и тогда прозвучит короткое:
— Огонь!
Все это мы повторяли без конца, только вместо огня Эдька весело и глупо вопил в полуденной тишине:
— Выстрел!
Наша батарея выезжала в поле, расчеты занимались отдельно, бойцы знакомились с материальной частью и учились выполнять команды.
Каждый день, под солнцем и в слякоть, в метель и морозяку, когда снег скрипел под сапогами так, что до горизонта было слышно, мы выезжали в мирные поля, зеленые от травы, черные от грязи, белые от снега. Ехали, собственно, ездовые, они правили тремя парами лошадей, а пять номеров огневого расчета шагали за щитом. Иногда едва уж поднимали ноги, как вдруг раздавалось:
— К орудию!
Мы отцепляли лафет от передка. Ездовые, пришпорив лошадей, гнали их в укрытие…
— Орудие к бою!
Я помню свою гаубицу, как живую. Она была зеленого цвета, с большим щитом, коротким стволом и длинным лафетом, тяжесть которого мы не один раз проверили своими руками. Самого сильного в расчете, жмота Федора Лушина, не зря назначили правильным. Его дело было «править» лафетом, поворачивать из стороны в сторону для грубой наводки и поглубже вгонять лафетный сошник в землю для упора.
Еще я вижу крупные колеса, которыми, занимая позицию, мы старались не задеть распаханного, уже засеянного поля.
— Мы защитники, а не губители, — говорил старшина Примак, воспитывая нас.
Про эти, такие обыкновенные на вид, простые, как у телеги, колеса, достающие нам до плеч и окованные железным ободом в две ладони, мы услышали на первом же занятии, что они не совсем обыкновенные. Разбуди меня среди ночи, я отвечу: они системы Грум-Гржимайло! Так сказал нам старшина. Почему системы? Не знаю…
На кованом ободе и толстых спицах зимой нарастал лед. «Отстрелявшись», мы цепляли к передку с шестеркой скучающих лошадей свою гаубицу и тянули домой. Наш ревностный сержант с разрешения командира батареи часто задерживал нас на занятиях, и мы возвращались поздно. В артиллерийском парке до блеска начищали зеленое, облезшее по краям тело гаубицы сухой ветошью и смазывали пушечным салом с крупицами, светлыми и прозрачными, как воск.
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](/uploads/posts/books/134563/134563.jpg)