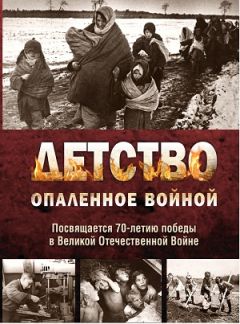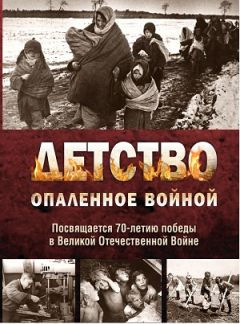Елена Ржевская - За плечами XX век
Вероятно, и прежний муж Жени прибивался в какому-то новому пристанищу, и расставались дружески, беззаботно распродавая свое имущество. Папа купил у Жени два стеллажа для книг, портрет Ленина углем на холсте и заграничный снаряд для утренней зарядки.
Стеллажи пришлись особенно кстати.
На Тверском бульваре – книжный базар!
Наскоро сколоченные яркие ларьки с вывезенными со складов приложениями к «Ниве», с дешевыми изданиями классиков всех времен и народов.
Букинистические лотки со всякой книжной всячиной. В сравнении с ними померкли бы те, у Сены, что составляют вечную достопримечательность Парижа.
И на газоне, потеснив цыган, тоже развалы уникальных книг. Пригнись, присядь, поколотись на траве. Спиноза, Молоховец, Аввакум. Прижизненное лейпцигское издание Гете. Лонгфелло в подлиннике. Чего только хочешь. И все баснословно дешево.
Гуляющая толпа валит под веселыми транспарантами, натянутыми поперек бульвара: «Первый книжный базар», «Привет Волховстрою!», «Удешевленная распродажа книг», «Мы строим первенец ГОЭЛРО», «Да здравствует труд и разум!»
С утра до темноты в базарное воскресенье я топчусь возле папы у книжных ларьков, и лотков, и развалов. Каких только книг охапками мы не перетаскали к себе домой.
Большая часть их на полу в папиной комнате – не разобраны, не встали на полки.
Я сижу на кипе книг, уткнувшись в «Роман моей жизни» Лили Браун.
Слышно, как поет, бренча на рояле, забежавший на часок папин младший брат Вуля:Веди ж, Буденный, нас смелее в бой,
Пусть гром гремит, пускай пожар кругом!
С той поры мне редко попадаются неразрезанные страницы – это какая-то особая причастность к бытию книги: тебе первому раскроется она.
При помощи кухонного ножа – благо Галя ушла на спевку в домоуправление – кое-как управляюсь.
«…пускай пожар кругом!» – и еще раз: – «пожар кругом!» – и крышка рояля хлопнула. Бегом пронесся мимо по коридору Вуля. И всхлип отворяемой раздерганной входной двери, и грохот ее, пущенной с силой назад, захлопнувшейся, и отзвук защелкнувшегося замка, медленно угасающий.
Я вдруг почувствовала: что-то произошло странное. Я с опаской приоткрыла дверь в коридор, уходящий далеко вглубь, к входной двери, а в другую сторону – к кухне.
И в ту же секунду настигло до того ни разу не изведанное: «никого нет». Во всей квартире. Мне стало страшно. Громадины пустого коридора. И того, что притаилось за закрытыми дверями комнат. И чего-то еще, неизъяснимого словами и сейчас. Тогда впервые испытанного и надолго, может, до сих пор, не преодоленного страха одиночества в большой квартире.
Этот страх все рос, судорожно завладевая мной. Сотрясаясь рыданием, я улеглась, скорчившись на уголке холодного кожаного черного папиного дивана, уткнувшись лицом в его холодную спинку. Что это было? Неосознанный страх необъятного грядущего вечного одиночества в ином, неземном измерении? Предчувствие рока, неминуемо простиравшегося над всеми, кто близок?
Взрослые были на работе. Брат в школе. Зубковы уехали всей семьей в Монголию, и их комната теперь всегда заперта. А ихняя Дора вернулась в деревню и уже прислала Гале письмо, что выходит замуж за вдовца с двумя детьми. Так что ее судьба уладилась. Люся, племянница Виктории Георгиевны, увязалась за Галей на спевку, вся в поисках своей судьбы. Но Галя-то – под крылом ее забот и властности прошли четыре года моей жизни, – как она-то оставила меня одну?! Об этом с особой болью рыдала. Может, в предчувствии, что она скоро покинет меня. И в самом деле, вот-вот, на рубеже первой пятилетки, она найдет себе работу и оставит нас.
Гордая, независимая, скрытная в своей жажде женского счастья, ничуть не меньшей, чем у тех двоих, Галя обретет наконец его и одержимо, бездетно, непреклонно понесет свою любовь вплоть до последнего часа, пока не растерзает ее паровоз.
Но зачем спешила она на эти спевки хора, зачем своим серебристым голосом так отважно и звучно призывала его «лететь»? Чтобы, воплотившись в будничного трудягу, он, волоча неисчислимый хвост груженых платформ, не мог не сбить очутившуюся под самым его носом на путях сцепившуюся за руки пару?
У мертвого мужчины в изодранном кармане обнаружены были клочья повестки – явиться по мобилизации в армию на следующий день. И это была, значит, их последняя с Галей прогулка в осенний день грозной войны, когда, возвращаясь домой в эйфории отчаяния от предстоящей завтра смертной разлуки, они потеряли представление об опасности и им суждено было погибнуть вместе. Или они сами решились на это? Кто ответит?
Может, я и уснула, наплакавшись, но тут же, как от толчка, очнулась от звука отворяемой входной двери, скатилась с дивана и – в коридор.
Если б я умела давать волю внешним проявлениям своих порывов, я б кинулась к этой избавительнице, юркнула головой под ее ладони и заурчала от нежности, когда б ее кольца цепляли и драли легонько меня за волосы, как прежде.
Но, лихорадя от ликования – я не одна больше, в квартиру пришел человек, – я стояла как вкопанная, пока она приближалась ко мне, и наваждение – страх одиночества – отступало.
Коридор был достаточно широк; сбивчиво стуча французскими каблуками зашнурованных ботинок, она прошла мимо меня, не задев и не глянув.
Но оскудевшее, дрожащее перо на шляпке, но свернувшийся в трубочку бумажный значок МОПРа, приколотый к пелерине, я успела заметить. В последний раз. Больше я не помню ее. А лицо старой кассирши и вовсе исчезло из памяти.
Мы переехали на другую квартиру, и позже я слышала, что комната за кухней освободилась. И Виктория Георгиевна «выбила» ее для своей незадачливой густоволосой племянницы.
Куда ж подевалась проживавшая за кухней старая кассирша? Обо всех жильцах знаю, о ней – ничего. Растворилась.
В мире, воинственно ухватившемся за поручни летящего паровоза, она отторгнуто, неслышно, в глухом одиночестве иссякла, чтоб гром гремел, чтобы «пожар кругом, пожар кругом!».
Великий Немой
Внучке Любушке
На исходе Тверского бульвара, у Страстной площади, по нечетной стороне, был «Великий Немой» – небольшой домишко, названный так в духе романтических преувеличений тех лет, огромные красочные афиши, бойкие огни цветной вечерней рекламы. «Великий Немой» манил всей трепетной и веселой приверженностью к чуду – кино.
В его неприхотливом зале прокручивались тогдашние боевики в сопровождении неутомимого тапера. То удачливые, ловкие ковбои, то какие-то халды, обреченно наскакивающие на непобедимую красную рать, то улыбка Мэри Пикфорд, и тогда – с экрана – кляп во все жующие, лузгающие семечки, поцелуйно чмокающие рты. Не только зрители, немел и сам расстроенный рояль, чтобы вслед загрохотать дребезжащей удалью.
Рядом с «Великим Немым» – подворотня, откуда появлялся продавец сластей, неся перед собой упиравшийся ему в живот лоток с товаром, висевший на лямке. Потряхивая головой, продетой в лямку, волоча за собой прижатые под мышкой складные козлы, он перебирался по неширокой мостовой на Тверской бульвар и всегда на одном и том же месте около Пушкина, по левую его руку, расставлял козлы – нечто самодельное, – на них примащивал лоток и терпеливо стоял тут, переминаясь на коротеньких ногах.
Деньги укрепились, были дороги, и настоишься, пока распродашь. Покупателями его была в основном детвора. Наша мама с доверием относилась только к тем продавцам кондитерской россыпи, у которых на голове высилась синяя шапка, пересеченная по тулье белой лентой с черным отчетливым клеймом «Моссельпром». Наш же лоточник был в трухлявой кепчонке, а покупать у какого-то частника мама не соглашалась. По ее твердому убеждению, все те сахарные леденцовые петушки, маковки да и конфеты, завернутые в бумажки, все они наперед уже обсосаны его детьми, если они у него имелись, а то и им самим. И вообще нас не больно баловали сладостями – так и деньги, и зубы целее. А нам – только бы копейка-две, и мы – у лотка. Отстояв, распродавшись, продавец уходил на раскоряченных, коротких ногах, повесив на себя пустой лоток, волоча сложенные козлы, сам – маленький, меньше всех других взрослых людей, и как казалось тогда – старый. И подворотня втягивала его в какую-то неведомую затемненную глубину, и в ней он либо уже и оставался, либо через какое-то время показывался с лотком, вновь начиненным товаром.
И интересно было ждать и спорить, выйдет он – не выйдет, и следить за подворотней с бульвара.
С годами товар его постепенно оскудевал, еще какое-то время оставались ириски, барбариски, подушечки, а в дни первой пятилетки лоточник исчез.
Я не знала, что еще встречу его. А пока на бегу к звонку, у ближнего перед школой дома, у окна на уровне земли, сигналит распахнутая форточка, и – о чудо! – какая-то женщина – лицо за стеклом в полутеми ее подвального жилища неразборчиво – сует в фортку поштучно соевые конфеты без бумажек, а другой раз – даже пончик с повидлом, – и в протянутую раскрытую ладонь воспаленно ссыпаешь деньги, выданные дома на горячий школьный завтрак, благословляя грозный риск ее промысла.