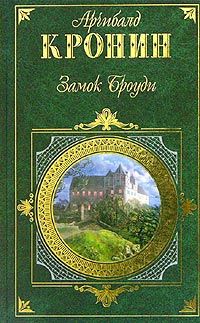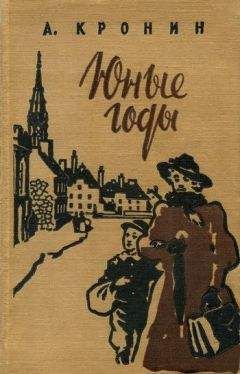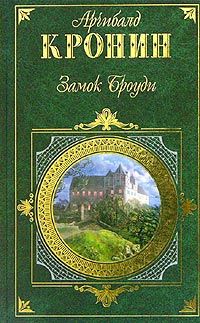Избранные романы. Компиляция. Книги 1-16 (СИ) - Кронин Арчибальд Джозеф
— Ты выловил его в Лохе?
Я кивнул.
— И он здорово тебя помотал?
— Да. — Я вспомнил о прошедшей ночи, о Лохе под лунным светом, о товарище, который сидел со мной рядом, о битве с лососем, которую мы выдержали, и опустил глаза.
Дональдсон вышел из кассы, помещавшейся в глубине лавки за небольшой стеклянной перегородкой, и сказал:
— Шесть фунтов по полкроны за фунт составляет ровно пятнадцать шиллингов. Пятнадцать серебряных монет, молодой человек. Передай их мистеру Лекки вместе с моей благодарностью. — Он стоял и смотрел мне вслед, пока я не вышел из лавки.
Как только папа вернулся вечером домой, я вручил ему деньги, которые весь день оттягивали мне карман. Он кивнул и пересыпал монеты в кожаный мешочек: папа отлично разбирался в монетах разных достоинств.
За чаем он был в преотличном расположении духа. Он сообщил маме, что по пути домой встретил мистера Клегхорна. Управляющий водопроводным хозяйством выглядит очень плохо, прямо на ладан дышит: говорят, у него камни в почках. Можно не сомневаться, что «если он и не отправится к праотцам», то отставка его, конечно, не за горами.
Папа как-то необычайно весело обсуждал возможность скорой смерти мистера Клегхорна. Поднимаясь из-за стола, он сказал:
— Пройдем в гостиную, Роберт. Мне нужно с тобой поговорить.
Мы сели в этой нежилой комнате у окна, на котором стояла ваза с высохшим испанским камышом и висели тюлевые занавески. На улице зеленые ветви каштана метались на ветру, точно взбесившиеся лошади.
Поджав бледные губы и соединив концы пальцев, папа задумчивым, добрым взглядом изучал меня.
— Ты становишься совсем взрослым, Роберт. У тебя хорошие успехи в школе. Я вполне доволен тобой.
Я покраснел — папа не часто хвалил меня. А он продолжал:
— Надеюсь, ты понимаешь, что мы правильно тебя воспитали?
— О да, папа. Я бесконечно благодарен вам за все.
— Сегодня к нам в контору заходил мистер Рейд, ему надо было подписать одну бумагу. Он долго говорил со мной о твоем будущем. — Папа откашлялся. — У тебя самого есть какие-нибудь планы на этот счет?
Сердце мое готово было выпрыгнуть из груди.
— Мистер Рейд, наверно, рассказал вам, папа. Я… я готов отдать что угодно, лишь бы изучать медицину в Уинтонском университете.
Папа сразу как-то весь сжался, прямо на глазах стал меньше. Быть может, он просто глубже ушел в кресло. Принужденно улыбнувшись, он заметил:
— Ты же знаешь, Роберт, что мы не куем деньги.
— Но, папа… Разве мистер Рейд не говорил вам насчет стипендии Маршалла?
— Говорил, Роберт. — На бледных, почти прозрачных щеках папы вспыхнули пятна румянца; он впился в меня суровым взглядом, словно всей силой своего возмущения хотел спасти от иллюзий. — И я сказал ему, что крайне неразумно давать тебе повод для всяких необоснованных надежд. Мистер Рейд слишком много на себя берет, к тому же мне не нравятся его радикальные взгляды. Разве можно ручаться за исход каких бы то ни было экзаменов? Опыт Мэрдока показывает, что нельзя. Да еще за экзамены на стипендию Маршалла! Ведь конкурс огромный. Откровенно говоря — ты, конечно, на меня не обижайся, — я не верю, чтобы тебе удалось получить эту стипендию.
— Но вы хоть разрешите мне попытаться, — охваченный внезапной тревогой, пролепетал я.
Худое лицо папы еще больше заострилось. Он отвернулся от меня и посмотрел в окно.
— В твоих же интересах я не могу этого допустить, Роберт. Ты только зря забьешь себе голову. Даже если ты и получишь эту стипендию, то еще целых пять лет не сможешь давать мне ни пенни, а разве я вытяну? Мы и так порядком на тебя издержались. Пора бы начать нам отплачивать.
— Но, папа… — отчаянно взмолился было я и тут же умолк: я почувствовал, как кровь отхлынула от моего лица и меня стало подташнивать. Мне хотелось объяснить ему, что я вдвойне за все отплачу, если только он позволит мне держать экзамен; хотелось сказать, что, если у меня не хватит дарования, я возьму свое упорным трудом. Но я сидел совершенно уничтоженный и молчал. Я знал, что все мои доводы бесполезны: папу не переспоришь. Подобно большинству слабохарактерных людей, он упорно держался за раз принятое решение. Поступал он так не потому, что хотел мне зла, — он ведь никогда не повысил на меня голоса и положительно гордился тем, что ни разу в жизни пальцем меня не тронул. Но неведомые силы, державшие папу а своей власти, внушили ему, что «так будет лучше».
— Должен тебе сказать, — успокоительно продолжал он, — что я говорил на прошлой неделе по поводу тебя со старшим табельщиком. Если ты этим летом поступишь на Котельный завод, то еще до совершеннолетия будешь иметь профессию. И все время будешь прилично зарабатывать, а значит, и мне поможешь содержать дом. Разве это не самый разумный для тебя выход?
Я пробормотал что-то нечленораздельное. У меня не было никакого влечения к технике, да к тому же я едва ли подходил для трехгодичного обучения в литейном цехе. Но даже если папа и был прав, никакими в мире рассуждениями нельзя было утишить горечь и боль, терзавшие мою душу.
Папа поднялся с кресла.
— Ты, конечно, разочарован. — Он вздохнул, потрепал меня по плечу и, уже выходя из комнаты, добавил: — Нищим не дано право выбора, мой мальчик.
А я продолжал сидеть, повесив голову. Папа уже обо всем договорился на Котельном заводе, об этом, очевидно, мама и сообщала Кейт в своем письме. Я вспомнил про свои радужные надежды, про то, как я рассказывал о них Алисон и Гэвину, про весь этот карточный домик, который я построил, — и у меня защекотало в носу. Я застонал.
Я хотел стать Юлием Цезарем или Наполеоном. А остался по-прежнему самим собой.
Глава 7
Дни медленно шли за днями. Я был в отчаянии. В четверг, незадолго до конца пасхальных каникул, я подстригал траву на лужайке за домом миссис Босомли: папа договорился с нашей соседкой, что я за шиллинг в месяц буду приводить в порядок и подстригать ее газоны. Этот мой мизерный заработок не выплачивался папе — несолидно все-таки получать такие гроши, — но поскольку миссис Босомли принадлежал не только дом, в котором она жила, а также и наш (эта двойная собственность была оставлена ей в наследство покойным мужем), папа старательно все записывал себе в книжечку и каждый квартал, выписывая чек, вычитал мой гонорар из той суммы, которую ему полагалось платить за аренду.
Сегодня, после того как я кончил работу и убрал машину для стрижки травы, миссис Босомли позвала меня из окна, а когда я зашел, поставила передо мной кусок холодного яблочного пирога и чашку чая.
Сев напротив, она налила себе очень крепкого чаю, который пила без сахара, и с явным неодобрением принялась меня рассматривать. Она стала еще дороднее и пышнее; лицо ее, с сеткой красных прожилок на щеках, выглядело помятым и усталым, как у старого боксера, но глаза по-прежнему блестели, а на губах играла насмешливая улыбка, свидетельствовавшая о живости ее натуры.
— Послушай, Роберт, — сказала она наконец, — не хотелось огорчать тебя, но придется сказать, что ты все больше и больше становишься похож на лошадь.
— Правда, миссис Босомли? — уныло пробормотал я.
Она кивнула.
— Ты только посмотри на свое лицо. Оно у тебя с каждым днем становится все длиннее. Ну, скажи мне, ради бога, почему ты такой печальный?
— Я, наверно, от природы такой, миссис Босомли.
— Тебе, что же, нравится быть несчастным?
— Нет… — Я поперхнулся пирогом, хотя он был вовсе не сухой, а насквозь пропитанный яблочным соком. — Не всегда, миссис Босомли. Иной раз мне бывает грустно и весело в одно и то же время.
— А сейчас тебе и грустно и весело?
— Нет… Сейчас мне, пожалуй, просто грустно.
Миссис Босомли покачала головой и закурила сигарету.
Она курила так много, что кончики ее пальцев побурели от никотина, — одна из особенностей, отличавших ее от остальных обитателей Драмбакской дороги. О ней ходили самые разные слухи, но общественное мнение, видимо, нимало не волновало ее. Она была чудаковатая, вспыльчивая, добрая. Мэрдок рассказывал мне, что в свое время она отчаянно ссорилась с мужем и швыряла в него посудой — Мэрдок все это слышал сквозь стенку, — а через минуту уже гуляла с ним по саду, называла ласковыми именами, обнимала.