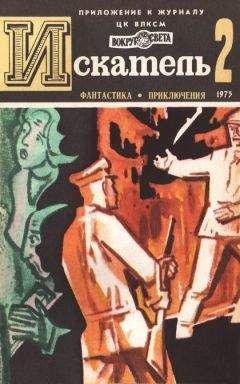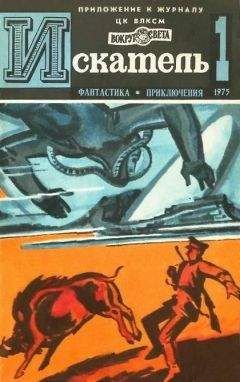Кронштадт - Войскунский Евгений Львович
Лампа на столе начальника разгорелась, ага, дали, значит, электроэнергию, надо нагревательную печь включить… Только вот доски для «постели»… Ну, сейчас начальника задействуем, пусть требует лесоматериал обратно… Да что ж это? Свет от лампы прибывал, затоплял комнату, до невозможного блеска наполнил графин с водой…
Когда Чернышев очнулся, начальник цеха стоял над ним с графином в руке. Троицкий, неуклюжий в своем тулупе, стоял сбоку, придерживал ему, Чернышеву, голову, начальник лил воду из графина на носовой платок. Флагмеха уже не было.
Чернышев поднял руку, потрогал свое мокрое лицо.
— Не надо, — прошептал он. — Хватит.
— Вот, Василий Ермолаич, — сказал Киселев, приложив мокрый платок ему ко лбу, — смотри, до чего себя довел. А все твое упрямство.
— Алексей Михайлович, звоните в механический, — с трудом проговорил Чернышев, удивляясь тяжести языка. — Лесоматерьял, что у них выцарапал, они обратно забрали.
— Хорошо, позвоню. Теперь так, Василий Ермолаич. Сейчас пойдешь в поликлинику, Троицкий тебя проводит. Второе. Ляжешь в стационар…
— Какой еще стационар? — Чернышев вытер ладонью лицо, шапку свою забрал у Троицкого, надел.
— Организуем на заводе стационар для особо истощенных. С усиленным питанием — ну, в пределах возможного. Ляжешь сегодня же, поликлиника даст направление, а я позвоню сейчас. Продкарточка у тебя с собой?
— Не могу ложиться. У меня, Алексей Михайлович, семья…
— Кратковременный стационар! Не больше двух недель полежишь, окрепнешь — твоей же семье легче будет потом.
— И на два дня семью оставить не могу. В поликлинику схожу… пусть ноги посмотрят… А в этот… Не пойду, не обессудьте. — Чернышев, медленно разгибаясь, поднялся.
— Упрям ты по-дикому. — Киселев прошел к себе за стол, выдвинул ящик, вынул небольшой сверток кубической формы. — Третье, — повернулся он к Чернышеву, — для ударников судоремонта выхлопотали по двести граммов масла. Прими.
Он протянул сверток. Чернышев смотрел недоверчиво:
— А где список? Почему у меня не спросили насчет ударников?
— Я и сам наших ударников знаю. Список готов, только не успел я дать перепечатать.
Василий Ермолаевич все еще колебался. Киселев положил сверток на угол стола и, не садясь, быстро разграфил синим карандашом лист бумаги.
— Ты вот здесь распишись в получении, а потом я дам Тамаре перепечатать. Давай, давай, некогда мне.
Чернышев прошаркал к столу, взял протянутую Киселевым ручку, расписался.
— Речкалова в список внесите, — сказал он, — Конькова, Габидулина…
— Они все в списке. Не беспокойся, никого не забыл.
— Ладно. Так вы в механический позвоните.
Взяв твердый кубик масла, завернутый в коричневую оберточную бумагу, и сунув его в противогазную сумку, Чернышев вышел, тяжело передвигая ноги. Троицкий взял было его под руку, но он отмахнулся, сам спустился по лестнице.
Внизу Чернышев остановился, сказал:
— Сергей Палыч, ты иди по своим делам. Меня провожать не надо, я не барышня. Я в док загляну, а потом сам в поликлинику схожу. Иди, иди.
Перед концом работы Надя заглянула в корпусной цех. Здесь было морозно, темно. В левом углу горел, потрескивая, костер, вокруг него — черными силуэтами — сидели несколько рабочих. Красноватыми дрожащими отсветами слегка высвечивались в глубине цеха громоздкие станки, длинные верстаки.
Надя направилась к костру. Оглядела одного за другим сидящих. Один повернул к ней небритое лицо:
— Отца ищешь? Был он здесь. А как электричество вырубили, в док ушел.
Надя кивнула, пошла к выходу.
В доке Трех эсминцев не слышно обычного стрекота пневматических молотков. Почти все листы обшивки сняты с носа сторожевика — еще более стал он походить на скелет. С подветренной стороны, в затишке, сидели на верхнем «этаже» лесов Речкалов и подростки-ре мес лен ники.
— Видать, не будет сегодня воздуху, — сказал Федотов по кличке Стропило, щупая мягкий шланг, по которому от заводского воздухопровода должен был подаваться сжатый воздух. — Дай-ка, Толстячок, докурю чинарик.
— Губы не обожги. — Толстиков, парень с красивым лицом и патлами, торчащими из-под шапки, протянул ему окурок. — Курни разок и Мешку оставь.
— Не надо, — отмахнулся щупленький Мешков. — Бригадир, а бригадир, — отнесся он к молчаливо-неподвижному Речкалову. — Чтоб гнуть листы новой обшивки, специальную «постель» надо делать?
— Само собой, — разжал твердые губы Речкалов.
— А если нагревом?
— Это как?
— Ну… приподнять один край листа на талях и нагревать его. По-моему, лист провиснет… ну… своим весом прогнется. И «постели» не надо. Времени меньше уйдет…
Бригадир не ответил. Прищурив глаза, смотрел Речкалов на фигурку, идущую в сгущающихся холодных сумерках по стенке дока. Федотов проследил его взгляд, крикнул:
— Эй, Надежда! Родителя ищешь? Был, да сплыл родитель! Иди к нам!
— Не ори, — бросил ему Речкалов и пошел к сходне, переброшенной на стенку.
Он и Надя остановились, сойдясь.
— Отец к тебе пошел, Надежда. В «квадрат».
— Не был он у меня, — вскинула Надя на Речкалова тревожный взгляд, — Давно ушел?
— Да около часа. Как воздух перестали давать, он ушел.
Надя сорвалась с места, со стенки дока пустилась бежать по протоптанной в сугробах дорожке к заводской проходной.
— Теть Паша, — спросила пожилую охранницу, — отец мой не выходил с завода?
— Вышел, — простуженным басом ответила женщина. — Что-то он плох совсем, еле ноги…
Не дослушав, Надя кинулась бежать через проходную.
По темной улице вдоль заводской стены шел лыжный отряд.
Молча шли, не в ногу, в белых маскхалатах, с автоматами на груди, с лыжами на плече — белые молчаливые призраки.
Обогнав отряд, прижав руку к груди — чтоб сердце не выпрыгнуло, — Надя повернула на улицу Аммермана. На миг остановилась — будто страшно ей стало продолжать отчаянный бег. Снова рванулась вперед. Влетела, задыхаясь, в подъезд, тускло освещенный синей лампочкой. Вверх, вверх… Скорей!
Замерла.
Мастер Чернышев лежал ничком на лестничной площадке, странно подвернув под себя ногу и выбросив руки к двери своей квартиры. В одной был зажат маленький коричневый сверток.
— Папа-а-а! — В тоске и ужасе Надя упала на тело отца.
Последний раз едет Чернышев Василий Ермолаевич по любимому своему Кронштадту. Едет на санках, в шапке и черном костюме-тройке, в гробу из некрашеных досок. Ноги в старых сапогах вздрагивают от толчков, — ноги, отходившие свое.
Санки везут Речкалов и один из «ремесленников». А за санками, как слепая, бредет Александра Ивановна, ее держат под руки Надя и Лиза Шумихина. Идут далее Шумихин, начальник корпусного цеха Киселев, строитель Троицкий, еще несколько рабочих с Морзавода. Тесной гурьбой идут «ремесленники». И Оля Земляницына тут. Человек двадцать пять. Большая по блокадному времени процессия.
Идут по Советской, вдоль решетки бульвара, заваленного снегом. Метет поземка, ветер набирает силу, предвещая новую метель.
— Берег он нас, — говорит Александра Ивановна, глядя прямо перед собой измученными глазами. — Надю баловал… Берег он нас…
— Ты поплачь, Саша, — говорит Лиза.
— Сколько раз хотела я опять на работу пойти, — продолжает Александра Ивановна, сама, должно быть, не замечая, что говорит безостановочно. — Что ж дома-то сидеть, я работать хотела… А он — нет, говорит, ты болезненная. Мало, говорит, я зарабатываю?.. Ты скажи, чего хочешь, я тебе куплю…
— Поплачь, поплачь, — бубнит ей в ухо сестра. — От слез легче, не от слов.
Ничего не слышит Александра Ивановна.
Да и Надя, кажется, ничего не слышит, ничего не видит. Идет с каменным лицом, поддерживая под руку мать. Оля Земляницына всхлипывает, глаза у нее опухли от слез. А у Нади глаза сухие.
Идет похоронная процессия, поскрипывает снег под ногами, под полозьями санок.