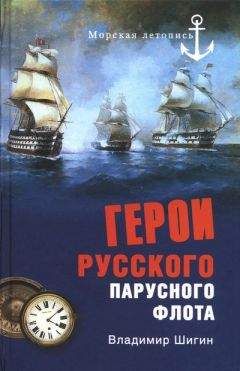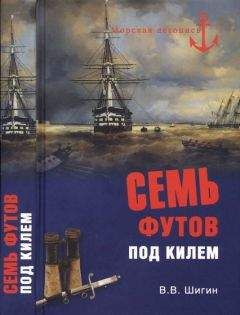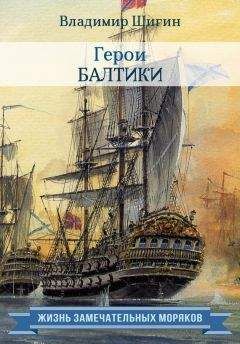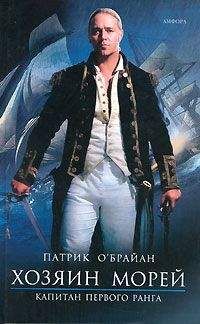Авторов Коллектив - Перо и маузер
Вспомнилось, как до войны он, Петерис Лапинь, жил на берегу Сусеи и работал кузнецом. Его захудалую кузницу своротил артиллерийский снаряд, жена Алвина с двумя детьми подалась сюда, в Белоруссию, в старую латышскую колонию Видрею. Сам Петерис, залечив рану — память об острове Смерти, вышел из госпиталя и теперь приехал домой на побывку. Уже завтра ехать ему обратно в свой 6-й Тукумский полк. Кто знает, придется ли еще когда-нибудь погладить белокурые головки своих детишек.
Петерис встрепенулся — Пецис, дернув его за рукав, крикнул:
— Солдат... Эй, солдат! Заснул, что ли? Когда щетину скрести будешь?
— Сейчас — раз и готово!
Петерис торопливо взбивал мыльную пену и приговаривал:
— Черт-те что, а не помазок. Истрепался, как наша армия.
Раскрылась дверь — вошла мать. Пецис кинулся к ней словно за помощью.
— Мам, что солдат, шутит?
Заботы и горе мелкими морщинками испещрили когда-то румяное лицо Алвины. Она остановилась на пороге и взглянула на мужа, водившего по лицу бритвой. Вдруг схватила с гвоздя полотенце и подскочила к столу. Осторожно вынула из руки мужа бритву и вытерла с лица полотенцем мыло.
— Что ты делаешь? — Петерис в недоумении широко раскрыл глаза, точно как только что Пецис. — Чего озоруешь?
Алвина перевела дыхание. На рано поблекшем лице расцвела тихая улыбка.
— Я принесла тебе жизнь.
* * *
— Ну, пострел, долго еще будешь тут вертеться? Ступай в поле, к Алме! — сердито крикнула мать.
— Я хочу к солдату... —Пецис потер кулачком глаза.
— Перестань ныть! Березовой каши захотел? — И она пальцем показала на розгу, торчавшую за потолочной балкой.
Петерис мрачно молчал. Все эти годы Алвина, и в стужу и в зной, ночей не досыпала, как львица дралась за детей. Он тут только гость, даже подарка детям не привез, —1 что ж, приходится теперь держать язык за зубами.
Когда мальчонка был изгнан во двор, Петерис взял шершавую руку жены и пробормотал:
— Зачем обижаешь мальчонку? Я ведь завтра уезжаю...
Жена легонько поворошила ему волосы:
— Господи, у тебя совсем седые виски! В тридцать шесть лет...
Петерис виновато вздохнул:
— В окопах день за год посчитаешь. Так что мне, наверно, уже за двести перевалило.
— Ничего! — В голосе жены зазвучали нежные нотки. — Скоро ты у меня помолодеешь.
— Неужто мирные переговоры начались? — Петерис подался вперед.
— Для тебя война кончилась. Сегодня я ее закончила.
— Не мучай меня! Дай сюда газету!
— Из-за газеты я мальчонку не гнала бы. Хочу поверить тебе тайну.
— Да не тяни же!
— На, закури! Чуть не забыла... — Алвина достала из кармана юбки коробку дешевых папирос «Тары-бары», на которой были изображены охотники. — Папиросы эти мне хозяйка Швортелей для тебя дала.
Такой веселой он свою жену видел разве только, когда они еще женихались.
— Понимаешь, хутор Швортелей на самом отшибе стоит. Кругом кусты да рощи... Мать и две дочери, и ни одного мужика... Хозяин в Бежице, на фабрике, с которой на фронт не берут. Сам знаешь, каково без мужика. Поле еще с грехом пополам засеют. Но разве бабы могут тяжести ворочать? Они тебя как избавителя примут, словно тебя сам бог послал. Сыт и одет будешь, и нам кое-что перепадет. И Пециса туда возьмешь... Авось и мы с Алмой потом к вам переберемся. Опостылело мне тут, у Лиепние-ков, как в тюрьме. Старуха хоть и глядит в могилу, а десять раз на дню к нам в комнату приползает. Все досматривает — не испачкали бы беженкины дети углем двери... не попортили бы гвоздями стены... не рубят ли хворост на полу. Чертова бабка! Дома рушатся, города горят, а я за эту дыру никак не расплачусь. Алвина, сегодня нам навоз вывозить... Алвина, грядку прополи... Алвина, выкоси... У Швортелей мы спокойнее проживем, а там и домой вернемся.
— Ах, вот как ты себе представляешь конец войны! — сказал Петерис осипшим голосом.
— Да, — радостно подтвердила жена. — Ты же сам говорил, что срлдатам эта бойня осточертела. Тысячами с фронта бегут. Ты только бороду не тронь — она выручит нас. Она у тебя растет, как трава на Янов день. Ты уж и теперь на старика похож, а через недельку-другую — в аккурат как дед-пасечник будешь. А когда вернемся на родную Сусею, я эти лохмы тебе враз ножницами отстригу, а самого, как штуку холста, в щелоке вымочу, сразу помолодеешь, как картинка станешь.
— Как картинка... — пробормотал Петерис.
— У Швортелей тебя никто не тронет. Туда хорошо если раз в месяц нищий забредет. Какой теперь без царя порядок? А сунется кто, тоже не беда — заберешься в рощу и прикорнешь под кустом. Мне говорили, — продолжала она вполголоса, — что с фронта труднее всего удрать, если поездом ехать, через города идти надо, там патрули да казаки документы спрашивают. А ты уже тут, значит, считай, что линь из вирши выскочил.
Петерис встал точно с тяжелой ношей на плечах.
— Скажи, кто мы дома были?
— Как, кто были? — не поняла она. — Ты был кузнецом, я женой твоей была, детей растила,
— А разве ты не ворчала: «Да будь неладна такая жизнь. Люди горя не знают, целыми днями водку пьют да песни поют, а я не придумаю, что детям в миску налить!»
— Ну, ворчала...
— Теперь у твоего мужа в руках винтовка..,
— Думаешь, еще десяток немцев убьешь, так тебе с небЬ клецки посыплются?
— Я же, милая, говорил тебе про семнадцатое мая.
— Хороша сказка, только я через час забыла ее.
— Нет, жена, резолюция Совета латышских стрелков 4 — не сказка.
Алвина кусала губы, в уголках которых змеилась усмешка. /
— Все вы, латышские стрелки, такие: точно козлы, ноги в колесо пихаете. Кому польза от того, что в рождественских боях вы это проклятое Тирельское болото своими трупами удобрили? Все равно там пшеница не родится — ни на болоте, ни на Пулеметной горке, ни на острове Смерти.
— Ты права, в окопах пшеница родиться не будет: ни для нас, ни для немцев. Стрелки это уже поняли. Поймут и немцы.
— Фрицы вовек не поймут этого! Покаты в госпитале был, Ригу сдали. Стрелкам и мертвым покоя нет, их могилы теперь прусские юнкера топчут.
У Петериса на лбу легли морщины.
— Красную Ригу черные генералы предали. Неправда, что немцам не понять, что Вильгельм и юнкера такие же бандиты, как наш сброшенный царь и буржуи. Поймут, милая, поймут! Щдет власть паразитов и у нас, и в Германии. Только клочья полетят.
Тихо брякнула дверная ручка — кто-то несмело дернул ее. Алвина распахнула дверь.
В комнату кубарем влетел Пецис.
— Иди, иди! — крикнула она. — Полюбуйся на своего солдата, готов сам вместо ядра в пушку влезть и по немцам выпалить.
Схватив мальчонку за локоть, она подтолкнула его к отцу.
— Иди, сынок, покажи солдату свою рубашку, она и для огородного чучела не годится!
— Постыдись, — прошептал Петерис. — Зачем ребенка впутываешь...
— Ах, зачем ребенка впутываю!.. А кто три года кряду детей, как кошка, с места на место таскал! Кто три года сломя голову по людям бегал, чтоб для детей добыть корку хлеба или каплю молока выклянчить? Мать! Кто их три года у своей груди грел, жизнь им сохранил? Мать! А ты в это время что делал? Солдатом был — рубил, колол, стрелял таких же, как сам. А твой сын даже слова «отец» не знает, хоть раз он назвал тебя папкой?
— Будь же разумной! — умолял Петерис. — Ты права!
— И тебе я принесла жизнь! — Алвина побагровела. — Так тебе не нравится это...
Мальчуган с перепугу забился под шинель, висевшую на крючке в углу. Петерис шевелил челюстями.
— Ты сказала «жизнь»! Но я не хочу жить только для себя. Мы, стрелки, мы, солдаты, несем жизнь всем народам России.