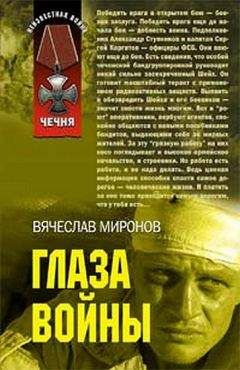Сергей Щербаков - Щенки и псы Войны
Если б она только знала, что в проехавшей мимо дома белой «Ниве» был ее единственный сын. Но этого она не узнает никогда.
Полковник провел Веру Владимировну в лабораторию. На одной из стен большой стенд с фотографиями военнослужащих под названием «Им возвращены имена». За компьютерами несколько офицеров-криминалистов и солдат. На экранах совмещенные изображения фотографий лиц и черепов. На столах, на полках под номерками кости и черепа. В углу у окна горько плакала молодая женщина в трауре. На экране компьютера перед ней лицо молоденького лейтенанта, почти мальчишки.
— Сережечка, миленький…., - всхлипывала она.
— Работа у нас, Вера Владимировна, сами понимаете, трудная, специфическая. Но, необходимая. Вернуть родным погибших солдат наш долг. Не каждый может этим заниматься. Здесь нужны одновременно, и чуткость, и железные нервы. У нас в основном служат профессионалы, а также проходят службу будущие медики, — сказал полковник, приглашая Веру Владимировну пройти в следующую комнату.
— В первую очередь нас интересуют переломы, рубцы, операции, татуировки. Какие приметы, вы говорите, у сына?
— У него на кисти левой руки была крошечная татуировка: «Марина». Вот на этом месте. А еще в детстве два пальца сломал на левой руке. Безымянный и указательный. В садике с качели упал.
— Это уже кое-что. Максим, посмотри по картотеке! Татуировка «Марина»! Кисть левой руки! — полковник обратился к старшему сержанту в очках, сидевшему за компьютером.
— А вы, присядьте, пожалуйста. Подождите. Заранее ничего обещать вам не могу. Работы много. Помощи же практически никакой. Лаборатория, сами видите, крошечная. Расширять нас не собираются. Боюсь, как бы вообще не закрыли.
— Есть, товарищ полковник! — откликнулся старший сержант. — Левая рука! Татуировка «Марина»! Номер…
Вера Владимировна уже ничего не слышала. Стены поплыли, все закружилось…
Он вернулся. Вернулся с войны, с жестокой бессмысленной, ни кому ненужной кровавой бойни. Его встречали цветами, со слезами на глазах. Только это были не слезы радости, это были слезы скорби, это были слезы убитых горем матери и отца, девчонок, с которыми учился. Цинковый гроб с телом Кольки Селифонова на железнодорожном вокзале ждали…
Почему он не стрелял?
Андрей, громко пофыркивая и поеживаясь от холодной воды, поднял мокрое раскрасневшееся лицо. Из зеркала на него смотрел кто-то угрюмый осунувшийся с седоватыми висками, с жестким взглядом темно-карих глаз, с плотно сжатыми губами. Капли воды, словно дождинки, поблескивали и искрились на мокрых волосах и сбегали тонкими струйками по коже.
— Отец, — вдруг буркнул Андрей, вглядываясь в свое отражение.
Вчера ему довелось побывать на городском рынке, долго бродил между лотками и прилавками со всяким железным хламом в поисках подходящего шланга для новой стиральной машины. Наконец-то после командировки сделал подарок любимой жене. Сколько можно стирать шмотки вручную? После продолжительных блужданий он остановился у прилавка, за которым дюжий мордастый хлопец, косая сажень в плечах, лет тридцати, доходчиво объяснял молодой женщине в кожаной кепке какой из смесителей лучше. Чего только у него здесь не было. Настоящий Клондайк. Узнав, что ищет Андрей, он тут же полез в свои закрома, закопавшись в коробках..
— Сейчас посмотрим, отец. Где-то у меня точно был трехметровый. А, вспомнил! Вот, он где. Если не подойдет, не волнуйся, отец, заменим!
— Отец, — пробормотал, криво усмехаясь, Анрей, вновь наполняя пригоршню холодной воды и окуная в нее лицо. Нашел старика. Хотя…! — он вновь посмотрел в зеркало.
— Да, постарели вы, товарищ старший лейтенант. Вон и седина появилась на висках. Глаза какие-то настороженные, странные, — Андрей округлил глаза и вдруг замер пораженный.
— Стоп! Глаза! Глаза! Эти темно-карие глаза! Где же он их видел? Эти глаза!
Полдня провозился с краником для «стиралки», приспосабливая его на смеситель. Семь потов сошло. Все проклял на свете. Это тебе не из АГСа стрелять да растяжки ставить. Вроде все затянул, включил воду. Что за черт! Сифонит в одном из соединений. Да, еще, как сифонит. Пол мокрый. Лужи кругом. Развинтил, по новой затянул. Теперь, сифонит в другом месте. Оказалось: зажевались прокладки. Других нет. Оделся, помчался в универмаг. Там таких нет. Закон подлости. Полгорода обегал в поисках прокладок. Впору на рынок опять ехать за тридевять земель. Наконец-то, нашел подходящие в каком-то магазинчике-подвальчике. Весь в мыле примчался обратно. Домашний народ мечется, места себе не находит, страдает: воду-то он, уходя, перекрыл. Поменял резинки. Заново присобачил смеситель, по всем правилам «трубопроводной науки», даже паклю не забыл. Затянул, как следует. Мысленно перекрестился. Ну, с богом! Врубил воду. Ура! Получилось! Крепко зауважал сантехников. Сантехника — дело тонкое! Тут сААбражать надо!
Андрей, насвистывая мелодию, выдавил крем, намылил помазком щеки. И мельком взглянув в зеркало, ошарашенно оцепенел с бритвой в руке.
— Глаза! Карие глаза! Вспомнил!!
Пятиэтажка встретила их мертвой тишиной и пустыми почерневшими от пожарища глазницами. Вошли в подъезд. Тимохин и сержант Кныш остались внизу, остальные со старшим прапорщиком Стефанычем стали подниматься наверх. Кныш, побрызгав в углу, вышел наружу и привалился у входа к стене, озирая окрестности через «оптику». Андрей же, некоторое время постояв у лестницы, шагнул в проем одной из «хрущевок». Хруст стекла под берцами, звяканье гильз…
«Кошмар, что натворили. Политики хреновы», — подумал он. — «Не город, а настоящий Сталинград. Унылое кладбище из почерневших разрушенных коробок. Нелюдимые мрачные руины».
Дверей нет, мебели нет: все сожгли аборигены, замерзая промозглой осенью и студеной зимой. Заглянул на кухню. В углу одиноко притулилась, когда-то белая, газовая плита, покрытая горой осыпавшейся штукатурки, из стен торчали головки шурупов, на которых видно крепились подвесные шкафы. Посредине — раскуроченный, лежащий на боку без дверцы, холодильник. Кругом ничего, кроме поблескивающего битого стекла от банок и склянок, осколков посуды и обломков узорчатого голубого кафеля. Андрей прошел в комнату, залитую солнечным светом. Было ясное морозное утро. В квартире с вывороченными рамами и пробитой снарядом амбразурой в стене было светло. Вокруг опаленные взрывом потрескавшиеся стены. Кое-где еще сохранились куски желтоватых обоев с изображением бледно розовых букетиков роз. Линолиум на полу посредине здорово выгорел: разводили костер. Чернели головешки: остатки пепелища. Стены исковырены осколками и пулями: истыканы дырками, словно обрывистые берега стрижиными гнездами. Кругом хлам: вспоротые консервные банки, выглядывающие из-под обломков обвалившегося кирпича пыльные истрепанные книги, в углу обнаженная чугунная станина пианино со спутанной бородой из оборванных струн, какое-то тряпье, сломанное ободранное вертящееся кресло без крестовины, грязные окровавленные бинты, замызганный камуфлированный бушлат с выгоревшей напрочь спиной, под окном горы стреляных гильз, какие-то пластмассовые колесики и части от детских игрушек…
Остановившись посреди комнаты, Андрей кожей почувствовал присутствие «его». Чей-то неприятный взгляд буквально буравил его насквозь. Он резко повернулся. В углу ниши с облезлой облупленной штукатуркой, стоял «он». Зрачок «калашникова» с тускло поблескивающим ободком уставился на вошедшего Андрея. Старший лейтенант рывком вскинул дуло автомата, не отрывая взгляда от неподвижно стоящего боевика.
На него смотрели большие темно-карие глаза. Это были не злые с прищуром из-под густых бровей глаза, полные ненависти, какими встречают и провожают их всюду. А глубокие умные глаза с необычным живым блеском. Они словно излучали свет. Они напоминали чем-то глаза давно умершей, настрадавшейся в своей жизни, матери. Он давно уже не видел такого взгляда. Тем более здесь, на войне, где рыскает словно гиена в поисках своей добычи ненасытная смерть, здесь, где на всем откладывает неизгладимый отпечаток суровый военный быт. Бывают, конечно, и веселые моменты расслабухи. Но даже в эти моменты в глазах боевых товарищей нет этого живого блеска, этого лучистого света. Даже под кайфом, во время смеха и шуток, их глаза остаются такими же усталыми, тусклыми, приговоренными, настороженными.
Боевик не стрелял. Его «калаш» с пустым «подствольником» был направлен в грудь «вэвэшнику». Их разделяло метра три, не больше. Чеченец был в камуфлированных брюках, заправленных в запыленные тяжелые солдатские ботинки с заклепками и высоким берцем. Черная когда-то кожаная куртка от потертостей стала почти белесой. Замок «молния», похоже, был давно сломан. Под курткой — толстый свитер. Шея обмотана клетчатым бордово-грязным шарфом. На голове темная вязаная шапка, вязка которой местами обмахрилась и свалялась в букле.