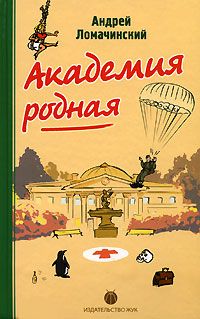Олег Смирнов - Эшелон
— Стихийное атмосферное явление. Дает дрозда!
Эшелон пропорол дождевую полосу и вырвался на сияющий солнцем простор. Голубое небо, зеленые леса, серые деревеньки и еще один цвет — буровато-кирпичный, обожаемый на железной дороге, в него покрашены постройки, заборы, скамейкп на станциях и полустапках. Мокрые вагоны подставляли свои бока под солнце — и гак, и этак, словно солдаты обсушивались у походного костра, — и позади вставала радуга. И впереди радуга. А мы ехали меж ними по сухому солнечному простору.
Старшина Колбаковский сказал:
— В Кирове полно будет пуховых платков, чесапок и леденцовых петушков!
— Откуда известно? — спросил я без интереса.
— Да уж известно. — Колбаковский осклабился. — Езживал я по Транссибирской, езживал. От Москвы аж до Читы и обратно же… До войны, до Отечественной, срочную служил в Монголии, в Семнадцатой армии, там дислоцируется.
— А скрывали этот факт от общественности, — сказал ефрейтор Свиридов. — Не в обжитые ли ваши края путь держим?
— Возможно, туда, — сказал Колбаковский. — Насчет обжитости не ручаюсь, но Монголия граничит с Маньчжурией, это точно.
— По географии проходили, — сказал Вадик Нестеров, ставший после Ярославля побойчее, поразговорчивее.
— Кто в школе проходил, кто на практике. Служба в Монголии — это вам мед?
— Рассказали б, товарищ старшина, — попросил Логачеев.
— Когда-нибудь и расскажу. Под настроение…
— А что, товарищ старшина, у вас хреновое настроение? По какому, извиняюсь, поводу? — Логачеев подмигнул другим.
— Не скрывайте причину от общественности! — Свиридов тоже подмигнул.
Мне не нравится этот панибратский тон, подмигивание, смешочки. Да, солдатики ведут себя вольно, даже юнцы Нестеров и Востриков осмелели. Дисциплинка поослабла. Субординация подзабылась. Вот так-то. Последствия того, что война кончилась.
Я сказал:
— Отставить разговорчики! Подготовиться к занятиям по матчасти оружия…
Старшина Колбаковский не соврал — на кировском вокзале сновали растрепанные тетки, обвешанные пуховыми платками, домашней выделки валенки под мышками, в руках набор розовых леденцовых петухов на палочках. Сверх того у пронырливых теток были петухи из дерева и глины, аляповато раскрашенные. Всю эту продукцию тетки, косясь на равнодушных милиционеров, старались продать или — охотнее — выменять на воинское добро, официально выражаясь — на вещевое довольствие, В Кирове было много других эшелонов, ни одного пути свободного. Между составами и на перроне толчея, мешанина из военного и гражданского люда. На привокзальной площади, пыльной и ухабистой, репродуктор — граммофонная труба — источал старинные вальсы, звуки их будто застревали в пышных тополевых ветвях. И там же застревали воробьи. Старшина Колбаковский сказал мне:
— Воробьишек полно, а сизарей — черт-ма. То есть я что хочу выразить? Что допрежь сизарей на вокзалах было — завались, проезжал тут, помню… А за военные-то, голодные годики скушали голубей. Воробьи да вороны остались…
А что, так, наверное, и есть. Голод не тетка, в войну было не до сизарей. Не сдохнуть бы, выжить. С тылового пайка разве что ноги не протянуть. Голодные, холодные были, а стояли у станков, рубали уголь, сталь варили, хлеб сеяли. Женщины, подростки.
Мужики-то в основном на фронте. Все для фронта, все для победы.
Было время… Не столь уж давнее… Героическое время!
Каркали вороны, чирикали воробьи, по радио трио баянистов наяривало старинный вальс. Кляча на площади вполсилы помахивала подвязанным хвостом. Люди обтекали клячу и подводу, растекались промеж эшелонов. Инвалиды, старухи с подслеповато ищущими, скорбными глазами, женщины, от которых веет одним — одиночеством, беспризорные мальчишки.
Да, города на востоке и села целые, не задетые войной. А люди ею задеты, от нее нигде не скроешься. Эхо войны докатывалось до любой, самой глухоманной точки. Так было в минувшую войну.
А как будет в предстоящую? Может, она будет покороче? Может, мы и в самом деле разобьем Японию единым махом? Силы у нас развернуты — дай боже. За четыре-то года. Стоит поглядеть на наши эшелоны. Сколько их!
А первый бой у меня сложился так. От самой Лиды эшелон в пути бомбили не единожды. Воя сиренами, немецкие самолеты пикировали, сбрасывали бомбы, обстреливали из пушек, на бреющем проходили над составом, обстреливали из пулеметов. Но машинист попался башковитый: он то резко тормозил, то рывком подавал эшелон вперед, а немцы никак не могли угодить в паровоз. Вагонам, правда, доставалось, некоторые из них дымились и горели. Потом прилетели наши «ястребки», завязался воздушный бой, и поезд уполз в лес.
Там, в лесу, и разгружались. Из разбитых, отцепленных, обгорелых вагонов выносили раненых и убитых — тех, кто так и не произвел по врагу ни одного выстрела, — здоровые спрыгивали наземь, строились, уходили в чащобу. Командиры поторапливали бойцов: "Шире шаг, шире шаг", потому что к исходу дня надо было выйти на оборонительный рубеж у шоссе. Полк едва занял рубеж, когда на шоссе появились фашистские танки. Громоздкие, черные, с белыми крестами и цифрами на бортах, они шли колонной с интервалом в десять — пятнадцать метров; расчехленные орудия покачивались, люки приоткрыты, из них выглядывали танкисты в шлемах и кожаных куртках. Сухая серая пыль висела над дорогой, в клубах разгляделось: за танками ехала колонна грузовиков с мотопехотой, за грузовиками — мотоциклы с люльками, в люльках автоматчики.
Вжимаясь в недорытый окопчик, я не отрывал глаз от приближающейся колонны. Мне все казалось, что это не реальность, а выдумка, сон, что танки, грузовики и мотоциклы ненастоящие, придуманные и что вообще никаких врагов на нашей земле нет.
Но из-за деревни на взгорке, за нашими спинами, ударила артиллерия, на шоссе вспучились разрывы, и танки открыли ответный огонь, и я расчухал: реальность. Та самая, от которой не схоронишься.
И не придуманным, а всамделишным оказался жалобный, стонущий крик в соседнем окопчике:
— А-а-а! Товарищ сержант! Я поранен!
Звали меня, я — сержант, командир отделения, это мой солдат.
И будто некая сила приподняла меня, вытащила из укрытия и заставила под осколками перебежать к соседнему окопчику. Боец лежал на дне окопа, нескладный, несуразный, отчего-то без ремня, раскидав длиннющие руки и ноги, и тонко, по-бабьи стонал.
Я крикнул:
— Что с тобой?
— В живот… товарищ сержант…
Он перестал кричать, говорил так тихо, что я едва разбирал его. Перевернул на спину и увидел: гимнастерка на животе излохмачена, намокла от крови. Задрал ее, вскрыл индивидуальный пакет, принялся бинтовать, думая о том, что это не мое дело, этим должен заниматься санинструктор, мое дело — командовать отделением. Перевязав бойца, я сказал ему:
— Лежи, санитары вынесут.
И побежал к своему окопу. Разрывы вставали вокруг, свистели осколки, воняло взрывчаткой, гарью и взбитой пылью. Танки стреляли, переползая через придорожную канаву, разворачиваясь в линию. За ними покатили по полю и мотоциклисты, и пехота, соскочив с машин, потопала следом; грузовики на поле не съехали, остались на шоссе, для чего-то сигналя, — подбадривали, что ли, пехоту?
Потом я не раз слыхал от фронтовиков, да и сам чувствовал: страшнее вражеского танка в бою ничего нет. Наверное, это справедливо. Но в том, первом бою страх у меня вызывали не бронированные громады, а живые люди, немцы — в серо-зеленых кургузых мундирчиках, в рогатых касках, в запыленных сапогах с короткими голенищами, у животов вороненые автоматы. Я не упускал из виду эти подробности, хотя страх возник во мне — где-то под сердцем — и разливался по телу словно с токами крови, парализуя рассудок и волю. И чем больше смотрел я на немцев, живых, двигавшихся, тем навязчивей становился страх. Еще немного — и он одолеет меня. И тогда я разозлился на себя, начал стрелять.
Чтобы живые немцы превратились в мертвых.
Высокий, стройный офицер в расстегнутом мундирчике, из-под которого белела майка, трусивший впереди всех рядом с танком, вдруг упал, надломившись, за ним свалился тучный, краснорожий солдат, и я люто и радостно заорал:
— Бей их! Круши! Бей!
И еще что-то орал, топя в этом крпке страх и зверея оттого, что немцы падали после наших выстрелов.
Затем была рукопашная, и я с механической ловкостью и остервенелостью работал штыком и прикладом. Затем разорвался снаряд, и осколок угодил старшине Возшоку в висок. Я закричал:
"Санитара! Санитара сюда!" — по старшине санитары не требовались, похоронщики требовались. После боя мы стирали пучками травы кровь с трехгранных штыков и хоронили убитых. Их оказалось больше, нежели уцелевших.
Подъехала полевая кухня, мне в котелок плеснули пшенного супа, и от запаха пищи меня стошнило. Ушел в кусты, мучительно, в спазмах, выворачивался там наизнанку.