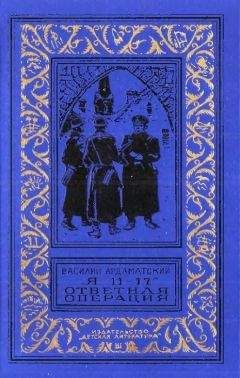Эдуард Арбенов - Берлинское кольцо
Еще через две недели друзей Убайдуллы вывезли на машине ко второму километру. Якуб остался за рулем, коротыш и обершарфюрер пошли в лес. Обершарфюрер сказал: «Только не трусь! В конце концов его все равно расстреляют». «Он наш земляк», — ответил как будто бы коротыш. «Забудь это. Или ты хочешь вместе с ним лечь в землю. За укрытие такого преступника по головке не погладят». «А если выдать?» — предложил коротыш. «Уже поздно, — пояснил обершарфюрер. — Он нас приплетет к делу, как только начнут допрашивать. Мне не хочется сесть за решетку перед самым концом войны. Да и отделаешься ли решеткой, немцы теперь злы, как шайтаны…»
Шел дождь, и пробираться через лес было трудно. Трудно из-за дождя и темноты и еще оттого, что за лесом был земляк, их друг Убайдулла…
16
Легионеры уже спали, когда в казарму ворвалась рота СД. Часовые были сняты бесшумно, как снимают их обычно лазутчики противника — кому-то зажали рот, кого-то оглушили прикладом, впрочем, Хаит знал пароль и мог обойтись без насилия, но это не входило в его планы. Он намеревался осуществить операцию по самым лучшим образцам, показать мастерство карателей.
Никто не оказал сопротивления. Не успел. Автоматы висели в сенях и добраться до них было уже нельзя, а солдаты в черных шинелях уже стояли в проходах и держали оружие наготове. Руки у них дрожали, поднимись только или даже крикни, нажмут на спуск и изрешетят очередями и легионеров и сами стены казармы.
— Стройся!
Легионеры понимали, что это значит. В одном белье выйти перед койками и стать навытяжку. Стоять так, пока обыщут койки, мундиры, шинели, пока каждый карман не будет вывернут и не окажется пустым. Горе тому, кто спрятал пистолет в постель. Его расстреляют сейчас же — выведут наружу и хлопнут. И будет лежать на снегу до утра, пока не занесет метель, не превратит в белый бугорок студеная пороша.
— Стройся! Быстро.
У Хаита был какой-то список, он смотрел в него и выкликал легионеров. Они делали два шага вперед и замирали. Испуганные и озябшие. Солдатское белье не защищало от холода, что гулял по казарме — бывшем колхозном коровнике, превращенном немцами в жилье для рядовых. Несколько железных печей, раскаленных докрасна, не в состоянии были отстоять коровник от ударов ветра и мороза.
В числе названных оказался и коротыш. Но он не вышел из строя. Хаит дважды выкрикнул:
— Иногамов!
Отклика не последовало. Капитан прошагал вдоль шеренги, пытливо вглядываясь в лица легионеров — он хорошо знал коротыша, во всяком случае, помнил его.
— Где Иногамов? — спросил Хаит дежурного офицера, и голос прозвучал раздраженно. Пока только раздраженно.
Дежурный замешкался. Промямлил, испуганно тараща глаза на капитана:
— На поверке был…
— Был?! Кто отвечает за личный состав батальона? Кто, я спрашиваю?
Дежурный молчал. Тогда Хаит дал волю злобе:
— Распустились! Шляетесь по деревне, заносите партизанскую заразу в батальон. Вам недорога честь мундира, клятва фюреру!
Злая нота росла, обретала жесткость и звонкость, уже не с губ, казалось, слетали слова, а возникали где-то вверху у стропил, бились там в истерике и на людей падало лишь эхо. Оглушительное эхо, пугающее, бросающее в дрожь. Да, так, именно так Дирлевангер готовил себя к расправе и учил этому Хаита. Две минуты, не более, требуются для увертюры, потом надо бросать роту на обреченных, слать пули в их головы и животы, нажимать крючок пистолета, нажимать нервно и торопливо, пока не иссякнут патроны в магазине и пока адъютант не сменит пустой «аурет» на заряженный, сменит торопливо, чтобы Хаит не остановился, не остыл, не растерял хмель злобы.
Жаль, конечно, что легионеры не сопротивлялись, не сделали ни одного выстрела, даже не попытались сделать. Один выстрел заменил бы всю эту процедуру со взвинчиванием нервов. Капитан вспыхнул бы сразу, да и рота загорелась бы желанием убивать.
Теперь все зависело от командира, от его злости. Оборвав крик, он скомандовал стоящим перед строем:
— Ма-аш!
«Восемнадцать человек! — мысленно подсчитал Хаит, все те, кто был указан в донесении. — Не много, но для острастки, пожалуй, достаточно, остальных выудим утром…»
Когда бело-серая цепочка — солдатское белье было бело-серым, — протопав по земляному полу, исчезла в темном проеме двери, капитан повернулся к остальным легионерам и холодно бросил:
— Всем одеться… — Глянул на часы, отметил время. — Три минуты на сборы, потом за дверь!
Метель только разыгрывалась. На станции Хаита встретила первая робкая волна, теперь ветер набирал силу — и гудел, и свистел, и выл, неведомо откуда налетая на деревню. Хотелось заслониться от вихря руками, как там, в дороге, но Хаит не заслонился, еще раз принял метель и еще раз показал солдатам, что способен быть мужественным. Мужественным и непоколебимым. Сейчас они это увидят.
Выгнанные из коровника легионеры сбились в кучу, заслонились почти голыми спинами от снега и ветра.
— Фор! — столкнул их с места Хаит, немецким словом столкнул, напоминая этим, что они солдаты немецкой армии и что он немецкий офицер.
Легионеры сделали несколько шагов и сразу завязли в сугробе.
— Фор! — повторил Хаит.
Никто не сдвинулся с места.
Тогда он заревел в бешенстве:
— Фор! Фор! — и стал грязно ругаться, припоминая все страшные слова, когда-либо слышанные им. Перед смертью людям надо было еще услышать грязную брань, испытать унижение.
Кто-то заплакал. От обиды или страха, а может, от холода — мороз пробирал до костей. Наверное, все-таки от страха: теперь каждый из них понимал, что его расстреляют. Здесь, на снегу, и ничем спасти себя нельзя…
— О алла!
В отчаянии вспомнил плачущий о боге. Но бог был далеко. Все было далеко.
Из коровника вышли остальные легионеры, те, которых не должны были расстреливать, но которым предстояло видеть смерть товарищей и устрашиться. Их поставили вдоль казармы, спиной к стене, лицом к сугробу.
Хаит все еще ругался и словами толкал обреченных, пытался заставить их выкарабкиваться из сугроба, из этого не ко времени возникшего снежного плена. Они барахтались в нем, как в пуху, глотали его, обмораживая губы и лица.
Тогда он стал стрелять. В снег, в копошащиеся тела, во все живое, что мелькало в полутьме. Из белого хаоса вырывались крики, стоны, то громкие, брошенные на ветер, то глухие, тонущие в морозном пуху. Люди пытались ползти, даже бежать, иные вскидывались в последнем порыве, и у них хватало сил сделать несколько шагов, но их валила пуля «аурета». Тринадцать пуль — двенадцать было в магазине, тринадцатая в стволе — не могли успокоить живой сугроб. Он еще двигался, бился в какой-то холодной агонии, когда на помощь «аурету» пришли автоматы. Стальной ливень, пробиваясь сквозь живое и уже мертвое, заглушил крики и стоны. Заглушил навсегда…
Тела убитых коченели. Можно было дать им спокойно уснуть, спокойно под вой и шепот метели, но очереди автоматные все рокотали, будоража тишину, вспарывая снежную могилу…
17
— Не знаю, что именно я искала. Вы можете представить себе, господин полковник, такой вариант, когда исполнителю не объясняют полностью задачу, а только часть ее. В решении участвуют многие, очень многие, и на долю каждого выпадает лишь одно арифметическое действие…
Полковник едва приметно кивнул, вернее, сдвинул подбородок, упиравшийся в большую грубую ладонь его, и тем дал понять баронессе, что согласен — да, так может быть и так бывает.
— Мне выпало одно арифметическое действие: приехать в Восточный Берлин, найти знакомое место на втором километре и разведать возможность поисков, установить, есть ли какие-нибудь следы унтерштурмфюрера. Почему поручили именно мне это простое арифметическое действие? Я знала унтерштурмфюрера, встречалась с ним в лесу и помнила каждую тропку, исхоженную нами…
— Память? И только… — усомнился полковник. — А вы сами, баронесса Найгоф, не были нужны им?
Вопрос приближал ее к рубежу, за которым не было уже бугорков, рытвин, колышков, так помогавших ей на долгом пути к главному. Оставался, кажется, один шаг. Всего лишь один. С упрямством и безрассудством отчаявшегося Рут Найгоф сопротивлялась. Устало сопротивлялась. Хождение по лабиринту — трудное и утомительное дело. Надо постоянно возвращаться, запоминать пройденное, чтобы не оказаться в тупике. Последнем и действительно безвыходном.
— Не думаю… — выдавила из себя Найгоф и опасливо посмотрела на полковника — поверил ли он ей? Нет, конечно, не поверил, как не поверил ничему сказанному до этого. Не поверил словам, улыбкам, вздохам, слезам. Даже ее горечи и тоске не поверил. А ведь она искренне огорчалась и искренне печалилась. Ей на самом деле грустно. Вот вчера, стоя у раскрытого окна и глядя на убегающие куда-то, именно куда-то в неизвестное улицы, может быть, в будущее, она испытывала неутешную боль одиночества. Она не видела себя на этих улицах. И на других не видела. Улицы жили без нее. Даже старомодная Шонгаузераллей не вспоминала Рут Хенкель…