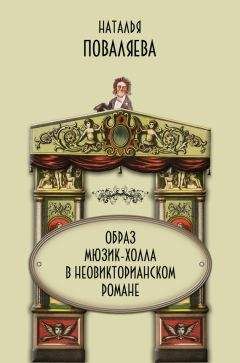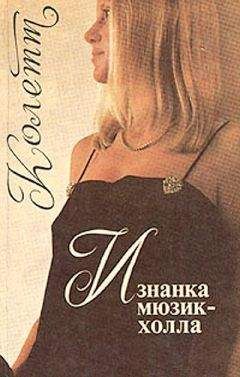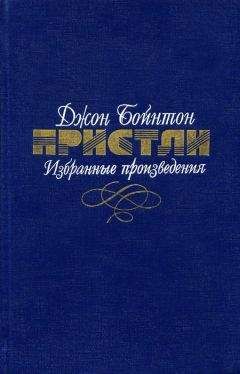Сергей Михеенков - Высота смертников
— Донец, — позвал он казака, — кажись, нашел. Вот он, ихний след. Ходи сюда.
Приказ Радовского был следующим: идти по следу партизан, ни в коем случае не сближаться во время движения, и, когда те остановятся на отдых или на ночлег, точно определить их местонахождение и тут же сообщить в штаб. Для выполнения задания Донец отобрал лучших курсантов.
Теперь они шли гораздо медленнее. Но, судя по всему, и партизаны уходили не быстрее. Так что рано или поздно они их настигнут.
— Донец, — спросил Еким командира, — ребята рассказывают, что ты вчера человека зарубил. Своего. Правда, что ли?
Казак ответил не сразу. Некоторое время шел молча, хмурил брови. И, когда поднял голову, Еким заметил, как потемнели его глаза.
— Правда. — Голос казака был спокойным. — Только это уже не человек был.
— Всяк человек — человек…
— А вот не всяк! — переходя на полушепот, видимо, боясь рокота своего голоса, прервал Донец размышления Екима. — Ты мне, егерь, еще поучения апостола Павла прочитай. О том, как надо любить ближнего своего.
— Я в ваши дела не лезу, — спохватился Еким.
— А вот и правильно. — Донец остановился, широко расставив ноги, обутые в высокие яловые сапоги. И в его осанке, и твердо расставленных ногах, и в манере говорить кратко и ясно чувствовались такая сила и убежденность, такая внутренняя пружина, что Еким пожалел, начавши этот разговор. — Веди лучше живее. Знай свое дело.
Свое… Еким отвернулся и усмехнулся в бороду. Поправил за плечом двустволку и зашагал дальше. Они с Донцом шли впереди. Остальная группа — следом, шагах в двадцати. Двое — замыкающими. Донец устав знал. Люди его слушались беспрекословно. А после вчерашнего случая еще и побаивались. Екиму он был не командир. В лесу Еким всегда чувствовал себя человеком свободным. За что и любил лес. И когда Донец напомнил ему о том, что он в их разведгруппе вроде как за гончака на кабаньей тропе… Это больно задело его вольный нрав. Уйду, решил Еким. При первой же возможности. Но казак, будто заглянув в его душу, тем же спокойным полушепотом вдруг упредил:
— По сторонам не смотри. Посмеешь деру дать, первая же очередь — твоя. У меня, сам знаешь, рука клятая…
Внутри у Екима похолодело: черт, а не человек, как все равно почувствовал…
Снег стал редеть и таять. Листья под ногами заблестели, словно только что упали с осин и орешин, улеглись ровным плотным ковром. И теперь на этом пестром узоре хорошо стала заметна темная полоса тропы.
— У тебя, Еким, дети есть? — неожиданно спросил Донец, не поднимая от тропы головы.
— Есть. Трое.
— Кто? Сыны? Казаки? Иль девки?
— Два сына и дочь.
— Сколько им?
— Старшему сыну пятнадцать. Младшему — шесть. Дочери — двенадцать.
— Вот и той девчушке, на которую этот боров полез, тоже годов двенадцать. Если бы не часовой, совродовал бы. Душу бы истоптал. Такому не надо больше жить. Так-то, Еким. А у меня, браток, четверо. И все — девки. Одна другой краше. — И Донец оглянулся на егеря. Лицо его преобразила едва заметная улыбка: дрогнули губы и потеплели глаза. — Радовский хотел меня под арест посадить. А я теперь думаю: если бы все назад повернуть, я бы того кнура заднепровского еще страшнее зарубил. А с другой стороны… С другой стороны, Еким, какая мы армия? Тоже сброд. Похуже партизан. Это еще господин майор в руках держит… Идейных-то мало. В основном — так, лишь бы от войны подальше… Сегодня перекантовались, а завтра, глядишь, еще что-то подвернется… Опять шкура жива и пузо набито.
— А это что, разве не война?
— За партизанами по лесам бегать? Тоже собачья работа. Сам видишь. Вот сейчас догоним их. Обложим. Если не сдадутся, положим всех из минометов. Я уже говорил господину майору, что такая война только разлагает людей. Душа травмируется. Своих ведь убиваем. Какая ж это война? Ходить по деревням, где нас ненавидят…
Они шли весь день. Вечером, когда сгустилась тяжелая осенняя тьма, слегка подсиненная снегом, они опять потеряли след. Партизаны, скорее всего, снова резко свернули, поменяв курс. Они ведь тоже не дураки, знают, что если начнется преследование, то оно будет вестись по следу. Так что след они не только маскировали, но и умело запутывали.
— Что, егерь, обдурили они нас? — Донец сбросил с плеча автомат, потом «сидор» и, присев на корточки, начал его развязывать. — Привал, ребята. Разрешаю развести костер и сварить кулеш. У кого что есть, давайте, выгребайте.
Через полчаса, выставив часовых, разведгруппа Донца уже сидела возле костра. В котелках побулькивало, выплескиваясь на угли, и дразнящий запах тушеного мяса разносился вокруг. Тихо переговаривались. Снова стала просачиваться в реплики курсантов старая и больная тема. Донец слышать об этом не мог. И не потому, что был не согласен с тем, что говорили курсанты, а как раз потому, что и сам думал то же. Но если и он, командир разведвзвода, начнет поддакивать личному составу, то начнется самая настоящая буза. И в первую очередь развинтится дисциплина.
— Вот тебе и Русская освободительная армия, — вздохнул курсант Буханкин. — Бегаем вот по лесам, как свора борзых.
— Это точно, — поддержал его бывший механик МТС Козлов. — Гоняемся вот за своими. За что боролись, на то и напоролись…
— А за что ты боролся? Вот ты, Козлов, скажи, за что ты боролся? — Донец знал, что можно было прицыкнуть на курсантов, чтобы прижали языки и поговорили бы лучше о своих бабах. Но после рубки в Богдановом Колодезе и эта тема вызывала в нем смесь тоски и ненависти. И прежде всего к себе самому.
Какое-то время, как оказалось, совсем непродолжительное, Донец радовался своему избавлению от лагеря, от тех мук и страданий, когда кажется, что лучше вышагнуть из строя и получить пулю в спину, чем терпеть унижения, побои, вонь и смрад лагеря, тоску колючей проволоки, густо окутавшую огромный загон с пулеметными вышками по периметру и бараками в середине. И когда его вызвали к начальнику лагеря и поволокли, еще не окрепшего после ранения, двое охранников из вспомогательной роты, он вдруг понял, что сейчас что-то произойдет. Что именно? А вот что: жизнь его, Донца, с этого часа пойдет по другому, не гибельному руслу. Правда, за это придется заплатить. Но черт с ней, с платой, лишь бы выбраться отсюда, выпутаться из железной паутины колючей проволоки, вдохнуть свежего воздуха, в котором не будет ни трупного запаха, ни запаха ужаса, ни стонов обреченных и воя сошедших с ума. В кабинете начальника лагеря, кроме полковника, которого знал каждый военнопленный, сидел средних лет человек, хорошо выбритый, в тщательно подогнанном мундире пехотного офицера, и листал какие-то бумаги. Когда офицер оторвал от бумаг взгляд и посмотрел на Донца, тот сразу понял — русский. Офицер в форме пехотного майора вермахта был русским. В глазах, в лице, в очертаниях лба и подбородка было что-то родное, славянское. И когда тот предложил ему служить в новой армии, Донец сразу встрепенулся: вот оно!..
В плен он попал в начале лета. Здесь, неподалеку. 1-й гвардейский кавкорпус с остатками 4-го воздушно-десантного и полком 329-й стрелковой дивизии 33-й армии уже перевалил через Варшавское шоссе и сосредоточился в партизанском районе для последнего броска к Кирову, где занимала оборону 10-я армия. 2-я гвардейская кавдивизия, как наиболее боеспособная, в начале операции пробивала коридор, затем вместе с партизанами удерживала его. 10 или 12 июня сотню, в которой старший сержант Донец командовал третьим взводом, направили на усиление арьергарда. Вел их старший лейтенант Лучко. Снарядили их хорошо. Все понимали, куда поведет Лучко свою сотню. Подобрали лучших коней. Два взвода вооружили автоматами ППШ. Третий, взвод Донца, имел кавалерийские карабины. Подсумки набили патронами, «сидора» — сухим пайком. Поскакали. Двигались по карте. Проселками. Миновали одну деревню. Другую. В третьей встретили повозку, которой управлял пожилой санитар. В повозке раненые. «Откуда?» — «Из Подлесного. Там наших добивают. Сейчас, может, уже немцы вошли. А вы куда?» — «В Подлесную». — «Не ходите туда. Уже поздно. Только себя погубите». Приказ никто не отменял. Пошли дальше. Встретили еще двоих раненых. Из 2-й гвардейской. Два сержанта ехали на одной низкорослой монгольской кобылке, без седла. У одного голова завязана. У другого нога. Они нахлестывали чересседельником свою кобылку и молча, не отвечая на их окрики и вопросы, объехали взводы стороной, полем, и скрылись в лесу. Что делать? До Подлесного уже не больше километра. Там стоит стрельба. Старший лейтенант Лучко развернул коня: «Третий взвод! Выдвинуться вперед! Донец, выслать в деревню разведку!» Разведка ускакала к деревне и не вернулась. Тогда Донец отобрал четверых надежных бойцов и поскакал с ними сам. Выехали в поле: впереди дворы, ракиты, впадина, видимо, деревня стоит на реке, за впадиной начинается сосняк с редкими полянами, сосняк постепенно переходит в сплошной лес. Оттуда можно подобраться к деревне скрытно. А здесь, в поле, их разъезд — как на ладони. Но вскоре и так стало ясно, что в деревне идет бой. А это означало следующее: немцы сжимают коридор, ликвидируют заставы второго эшелона. Вернулись в сотню, доложили. «В бой мы ввязываться не будем, но займем оборону здесь, справа и слева от большака. С задачей — не допустить прорыва немцев в восточном и юго-восточном направлениях», — приказал старший лейтенант Лучко. Начали окапываться. Коноводы отвели коней в тыл, в овраг. Через час с небольшим по большаку прострекотал мотоцикл. Мотоциклист, видать, заметил, что дорога несвободна, что справа и слева от обочин копошатся какие-то люди. Дал длинную очередь из пулемета, лихо, на пятачке, развернулся и умчался через поле назад, откуда приехал. И вот, спустя полчаса, на большаке зарокотали моторы, залязгали гусеницы. «Танки! Приготовить гранаты!» Гранаты — тоже артиллерия. Но против танков — хреновая. Первую атаку они все же отбили. Подожгли два танка. Один танк наступал на третий взвод, и его забросали бутылками с КС уже позади окопов. А пехоту отсекли пулеметным и винтовочным огнем. Оставшиеся три танка начали пятиться. Выползли на горбовину поля, рассредоточились и начали методично крушить из своих орудий окопы взводов, вышвыривать из ячеек изуродованные тела кавалеристов, дырявить из пулеметов каски, которые торчали над брустверами. Один из снарядов угодил и в угол ячейки Донца. Донец сидел во время обстрела, прижавшись спиной к стенке окопа и обняв свой карабин. Под ногами валялись стреляные гильзы. Две обоймы расстрелял командир взвода, руководя боем на своем участке. И, видимо, плохо он замаскировал песчаный отвал, или немец оказался таким зорким, засек вспышки одиночных выстрелов, а потом разглядел и бруствер окопа. Прилетел снаряд, вспорол угол ячейки и разорвался в земле. Донец не услышал взрыва, не увидел вспышки огня, не почувствовал ни боли, ничего. Все произошло мгновенно. Очнулся от того, что кто-то, совсем рядом, заговорил по-немецки. Он открыл глаза: двое немцев ходили вдоль окопов и воронок, что-то собирали. Рядом, на дороге, тарахтел мотор грузовика. Немцы подошли к нему, о чем-то переговорили, взяли его за гимнастерку и за ремень и поволокли к машине. Когда закрывали задний борт, Донец увидел коня. Это был его Буян, под седлом, с притороченной саблей и походным мешком, в котором всегда было, кроме всего прочего, что нужно казаку вдали от дома, сумочка с сухарями да с десяток горстей овса…