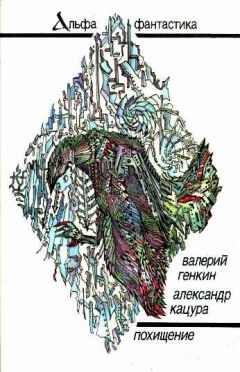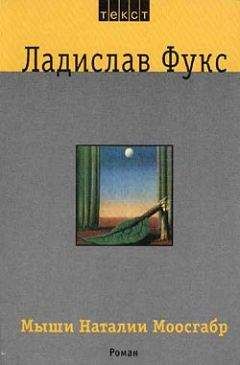Ладислав Мнячко - Смерть зовется Энгельхен
— Глупости!
— Мне все равно. Я никогда не думала, что такое возможно, что человек может так забыть о себе, как я.
Она поцеловала меня в первый раз, когда мы сели на скамью. Люди смотрели на нас осуждающе. Хорош госпиталь! Содом и Гоморра!
— Что нам до них, — смеялась она. — Если они никогда не любили, их только жаль.
Странно… Те, что ходят по улице, здоровы… А я, калека с четырьмя деревянными ногами, я жалею их, если они никогда не любили.
— Я люблю тебя, Элишка! Как замечательно, что ты со мной.
— Ну, если так — все в порядке…
Вечером она не пришла проститься, как обычно; я забеспокоился. Что случилось? Весь день в саду мы были точно счастливые дети. Может быть, Бразда?.. Или еще что-нибудь? Пусть только кто-нибудь попробует обидеть ее! Пусть только кто-нибудь тронет хоть волосок на ее голове, только один ее золотистый волосок…
Я к ней привык. Она вошла в мою жизнь, стала необходимой для меня, необходимой — и я не раздумывал особенно, почему…
Если бы кто-нибудь сказал мне несколько недель назад, что я могу влюбиться, как бы я посмеялся! Ногам стало лучше, но не только ногам. В моей жизни появилось что-то новое, у меня прекратились страшные ночные кошмары, меня не атаковали больше полчища навозных жуков, но я еще не решался сказать вслух с полным сознанием: хочу жить.
Я действительно хочу жить. И не один. Я тоскую по Элишке, я желаю ее, мне пусто, когда ее нет рядом, меня беспокоит, что она не пришла проститься.
Но что я могу предложить ей? У меня нет никакого положения, у меня ничего нет; говорят, правда, что объявлены льготы для политических заключенных и партизан в выборе работы. Но я не хочу никаких льгот, никогда не захочу. А что я такое? Ничему не выучился, ничего как следует не знаю. Между моими прежними стремлениями и нынешним днем — шесть лет войны. Это преграда, преодолеть которую очень трудно. Все эти шесть лет сожрала ненависть к фашистам, была только эта ненависть, больше ничего не было. Но ненависть — это не призвание, за нее никто ничего не дает. Говорят, сигарета стоит сорок крон, а кило мяса — больше тысячи. Если бы я был здоров, я пошел бы работать на шахту. Заключенным мне пришлось работать на немецких шахтах — почему свободный человек не может добывать уголь? Но Бразда говорит — не менее двух лет пройдет, пока наладится левая нога.
Инвалидность? Мне двадцать четыре года. Само слово «инвалид» для меня омерзительно.
Я поймал себя на мысли, что не думаю больше о прошлом. Хорошо это? Плохо?
Я лежал на животе, и, хотя не думал больше о Плоштине, невеселые были у меня мысли. Нельзя ведь жить одной любовью…
Я даже не заметил, как она вошла. Только вдруг почувствовал, что в комнате кто-то есть. Я поднял голову. Элишка стояла в дверях, прижавшись к ним спиной, как будто защищала их, чтобы никто не вошел.
Она выжидающе улыбалась, улыбка ее говорила — я здесь…
Когда она увидела, что я смотрю на нее, она сделала несколько шагов вперед, взяла ночной столик и забаррикадировала им дверь.
— Что ты делаешь, Элишка?
— Я останусь здесь. Останусь сегодня с тобой. Мне теперь все равно… все равно…
— Ты с ума сошла! Да тебя прогонят из больницы!
— Не прогонят! У Гелены доброе сердце. Я сказала ей, что останусь с тобой. Гелена желает нам… Она не виновата, что такая замкнутая. Она очень хороший человек.
— Если так… Если уж Гелена знает… Поставь столик на место.
— Я знаю, — склонила она голову, — я безрассудна?
Я смотрел, как она передвигает столик.
Я никогда прежде не видел ее без больничного халата. Голова непокрыта, платье темно-синее с белым воротником — она кажется еще моложе, почти ребенок.
— Что ты так смотришь на меня? — неуверенно спросила она. — Мне уйти?
— Зачем уходить? Я просто… смотрю, я никогда тебя такой не видел.
Я протянул к ней руки, она с такой доверчивостью вложила в них свои, что у меня даже мороз по коже пошел.
— А ты смелая!
— Я люблю тебя, все остальное не имеет никакого значения.
Она стала целовать меня в губы, в лоб, в глаза…
Боже мой, что же это было! Что за женщина! Кто постиг, кто описал, кто и когда сможет объяснить такие моменты — это точно буря, шторм на море…
Голова у меня кружилась, мысли терялись…
Какое сумасшествие, какая мука!
И зачем я такой калека!
Она стояла ко мне спиной и застегивала пуговицы. Она ничуть не стыдилась — вот обернулась ко мне, глаза ее весело блестели.
— Я знаю, так нельзя… — говорила она, — но сегодня весь день я была так счастлива… я думала — ты так смотришь на меня. Зачем мучиться? Конечно, так нельзя, не буду больше такой безрассудной…
Я погладил ее волосы.
— Милая Элишка…
— Как ты любишь меня? Больше всего на свете?
— Можно любить или не любить. Нельзя любить больше или меньше.
— А ты любишь? Очень?
Люблю. Очень люблю. Если бы не было ее, я прошел бы всю землю, а если бы не нашел — и жить-то не стоило…
— Ты не сказал, любишь ли меня. Любишь?
— Ты нужна мне, Элишка.
— Но ты не сказал… не сказал…
— Ты мне нужна. Это больше.
Теперь я принимаю тебя, жизнь. Теперь можно. Благоволи вступить в мой мир. Сегодня ведь праздник. Подожди, я вытру для тебя стул.
Элишка сидела на кровати. Гладила мои ноги, прикрытые одеялом.
— Ох, ноги, ноги… — вздохнула она.
— Это были хорошие ноги, Элишка…
Это были хорошие ноги…
В те страшные дни, когда жители отдаленных хуторов запирали двери перед нашим носом, гнали нас, голодных и замерзших, с проклятиями от своих порогов, натравливали на нас псов, кричали нам вслед «убийцы», у нас не оставалось в мире ничего, кроме хороших ног.
Немцы развесили на каждом углу каждой улицы, в каждом городе, в каждой деревне, на каждом перекрестке дорог, в лесах, в полях, на столбах, мостах, на стенах часовен знакомые нам красные плакаты, в них сообщалось о том акте правосудия, который совершили немецкие солдаты в Плоштине, об осадном положении и о том, что голова каждого партизана оценена в тысячу крон.
Скорцени ударил сразу по всем фронтам, и нам не осталось ничего, кроме хороших ног. Желудки были пусты, ноги шли. Легкие, казалось, налились свинцом и тянули к земле — ноги тащились. Сердце отказывало, ноги несли. Малодушные, противоречивые мысли овладевали сознанием, но ноги были умнее головы. Нашего словака Ондрея ранили, это было удивительное ранение — пуля проникла в его тело повыше локтя, а вышла назад под левой лопаткой, но не задела кости; мы перевязали обе его раны, как только позволило нам наше умение, и словак Ондрей шел дальше, ноги несли его. Два дня его томил жар, но ноги несли его дальше и дальше. Если у кого-нибудь голова оказывалась не в порядке, это еще ничего не означало. Но если отказывались служить, уставали, не слушались ноги — это был конец.
Скорцени не боялся гор. Мы были безответственны и наивны, когда не могли объяснить себе, почему он медлит, чего ждет. У него было довольно опыта, его хорошо информировали, на службе у него была отличная организация, в его распоряжении были все нужные для его дела средства. Он нанес удар, когда из Словакии через горные перевалы повалили немецкие войска — это было еще не бегство, немецкая военная организация еще действовала безотказно. Скорцени сделал все, чтобы мы не чувствовали себя хозяевами в этой стране. Ему удалось запугать крестьян в деревнях и на выселках. Скорцени был тренированный охотник на партизан, ему хорошо известно было, как проводить травлю. У него было все необходимое для этой травли… У нас же оставались только ноги.
Рябой Гришка в ту последнюю ночь прошел с нами часть пути и снабдил нас последними приказами и наставлениями. Мы должны были заманить немцев в Бескидские леса — как можно дальше от перевалов, как можно ближе к приближающемуся фронту. Немцы еще сильны, но уже не настолько, чтобы позволить себе посылать против партизан регулярные войска. Ягдкоммандо Скорцени насчитывает более тысячи человек, и с ними он должен держать в повиновении всю восточную Моравию, даже треть этого отряда он не может бросить против нас. Если нам удастся увести головорезов Скорцени от перевалов и заставить их потерять как можно больше времени, остальные три партизанских отряда смогут продолжать свои операции и нарушить порядок немецкого отступления.
Гришка хорошо знал, что ждет нас.
— Оружие теперь для вас — не самое важное, Володя… Самое главное — ноги, берегите их. Все время напоминай об этом Петеру, особенно когда ему начнут приходить в голову блестящие идеи…
С этими словами он ушел. Не попрощался, не обнял меня, не пожал руки, я был благодарен ему за это. Возможно, он уже считал нас погибшими, но не показал этого.
Остаток ночи мы шли. До рассвета мы хотели перейти шоссе и дойти до пограничного лесного массива. Было нам страшно? Было. Мы не так боялись карателей, как их псов. Немецкие собаки пользовались среди нас страшной славой, даже в самые хорошие минуты партизаны с ужасом говорили о немецких псах.