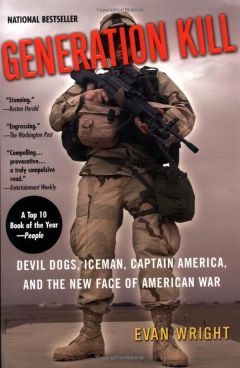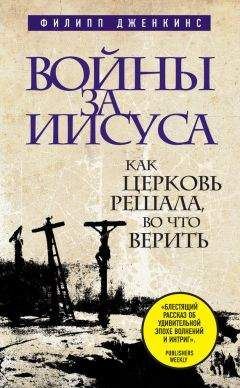Филипп Капуто - Военный слух
Менялись не только цифры. К началу лета мне было двадцать четыре года; к его концу я был намного старше, чем сейчас. Хронологически мой возраст увеличился на три месяца, в эмоциональном плане — на три десятка лет. Мне было где-то за пятьдесят, и я был в том гнетущем периоде жизни, когда друзья человека начинают умирать, и каждая очередная смерть напоминает ему о приближении его собственной.
Помногу за раз наши не погибали. А поскольку умирали они по одному, я помню их как людей, а не как статистические данные. Я помню капрала Брайена Готье — он, по словам одного циничного старого вояки, «заслужил два Военно-морских креста: сине-золотой на грудь и белый, деревянный — на могилу». Готье, командир отделения из роты «А», двадцати одного года от роду, был смертельно ранен 11 июля в засаде. Медаль ему дали за то, что он продолжал руководить подчинёнными под сильным огнём противника, пока (цитируя представление) «не умер от ран». Какое-то время спустя в его честь назвали лагерь штаба полка. Здорово, конечно, но гранатомётчику, погибшему в той же засаде, медалей не досталось, и ничего в его честь не назвали. У него и возможности не было совершить какое-нибудь геройство, потому что мина, на которую он наступил, вызвала симпатическую детонацию[65] его 40-мм гранат, из-за чего он сразу же погиб. «Симпатическая детонация» — это выражение из отчёта о его смерти. Вот ещё один пример бездушного, неточного военного эвфемизма. Означает, что разрыв мины заставил его гранаты взорваться одновременно, и ничего симпатичного я в том не видел.
Я помню Фрэнка Ризонера, который тоже пал смертью героя, и Билла Парсонса, смерть которого таковой не была. Я повстречал Ризонера в палатке оперативной секции на следующий день после смерти Готье. Я тогда как раз разделался с отчётами по семи морпехам, которые в то утро погибли или получили ранения от миномётного огня. Ризонер сидел в палатке, глядя на карту и покуривая при этом свою побитую, погнутую трубку. Ризонер, низкорослый, плотный, двадцати девяти лет от роду — староват для первого лейтенанта — был когда-то рядовым, поднявшимся по служебной лестнице, был он женат и имел детей. Мне нравились и он сам, и его спокойные манеры зрелого мужчины. Мы распили банку пива на двоих, обсудили выход на патрулирование, который предстоял ему в тот день. Его рота выходила на рисовые чеки ниже хребта «Чарли» — равнинные, опасные места, покрытые зарослями кустов и деревьев. Ризонер допил пиво и ушёл. Несколько часов спустя его привезли обратно на вертолёте; пулемётная очередь прошила его поперёк живота, и молодой капрал, который вытащил Ризонера из-под огня, сказал: «Надо бы его накрыть. Одеяло найдётся? Шкипера моего убило». Там, в патруле, его рота наткнулась на пару пулемётных ячеек противника. Он лично атаковал и подавил одну из них. Затем, обстреляв вторую пулемётную точку из карабина, он побежал вытаскивать раненого и погиб. Фрэнку Ризонеру дали Почётную медаль Конгресса, в его честь назвали не только военную базу, но ещё и корабль, а вдове отправили медаль и письмо с соболезнованиями.
Парсонса, лейтенанта из роты «Е» 2-го батальона, убило двумя ночами позднее нашей собственной миной из 106,7-мм миномёта. Она попала в расположение его взвода, когда он проводил занятие с подчинёнными в «тыловом» лагере. Морпехи там стояли плотной группой, и, поскольку 106,7-мм мина — снаряд довольно мощный, потери были. Нам в штабе было трудно составить точный отчёт о потерях; никто не знал наверняка, кого убило, а кого ранило. Капитан Андерсон сказал, что мне опять придётся отправляться в дивизионный госпиталь, чтобы во всём разобраться. Я отговорился от этого, сказав, что на трупы насмотрелся столько, что больше неохота. Андерсон сказал, что сам сходит. Когда он вернулся, то выглядел как-то странно, и ничего не сказал — только зачитал записи, которые сделал в госпитале. Записал он всё хорошо, тщательно: ноги Парсонса отрезало на уровне бёдер, ещё два человека погибли, ещё восемь получили серьёзные ранения. Пока он читал, я заполнял бланки, затем подшил их в папку с отчётами о небоевых потерях. После этого Андерсон перевернул страницу в своём блокноте на столе и сказал: «Там было как в мясной лавке».
Помню ещё и ту ночь две недели спустя, когда отделение вьетконговских «сапёров» проникло сквозь заграждения вокруг расположения инженерного батальона рядом с КП. Начали рваться сигнальные растяжки и гранаты, пули вздымали пыль у палатки младших офицеров. Я продрался через противомоскитную сетку, схватил карабин, споткнулся, ударился об угол рундука и по собственной вине на пару секунд отрубился. Придя в сознание, я заполз в траншею, где стоял Мора, помощник офицера по разведке. На нём не было ничего, кроме ремня с пистолетом. Барт Фрэнсис, ещё один штабной лейтенант, поглядел на него и сказал: «Нет, Роланд, одет ты, право, непристойно». В голове у меня туман от удара ещё не рассеялся, и я истерически засмеялся. Тем временем Шварц — а в бою прусское начало пёрло из Шварца наружу — выкрикивал приказы группкам растерянных солдат. Ну ладно, пускай командует, раз понимает, что происходит вокруг. А я не мог ничего понять, хотя ночь была лунная, да и осветительные ракеты добавляли света. По всему периметру раздавался огонь из стрелкового оружия — очевидно, ещё одно отделение «сапёров» пыталось пробиться через заграждения вокруг КП. Вьетконговцы стреляли в морпехов, морпехи — во вьетконговцев или в других морпехов, или вообще ни в кого. В белёсом свете мы увидели стрелка ярдов за двадцать-тридцать от нашей траншеи. Низко пригнувшись, он забежал под перекрёстный огонь и упал, как будто поскользнулся на ледяном пятачке. Его ноги взлетели вверх, он тяжело упал на спину и больше не двигался. После того как огонь затих, мы ещё с одним офицером вылезли из траншеи и, позвав санитара, подбежали к этому морпеху. Санитар был ему не нужен. Глаза его были широко открыты, но ничего уже не видели, а одна нога, наполовину оторванная в районе бедра, была подогнута под него, и похож он был на циркового акробата.
Ещё кое-что помню. Помню Ника Паппаса, звезду студенческого футбола, который наступил на мину, которая почти на два года отправила его в инвалидное кресло и навеки лишила возможности играть в футбол; помню молодого офицера из танкового батальона, приданного нашему полку, которого ранило в ногу и в бок из АК-47, и как он медленно умирал от гангрены в госпитале на Филиппинах, а хирурги по кусочкам ампутировали заражённую ногу, пока не дошли до верхней части бедра и дальше ампутировать уже не могли; или ту дождливую ночь, когда я ходил в госпиталь, чтобы установить личности трёх морпехов из моего прежнего взвода — Девлина, Локхарта и Брайса.
Они погибли от взрыва в блиндаже поста подслушивания по ту сторону рубежей роты «С». Я очень хорошо помню ту ночь, лучше, чем хотелось бы. Мы с Казмараком подъехали к госпиталю и припарковали джип у брезента, растянутого над тремя столами. Над каждым столом висела лампочка. На улице ровно гудел электрогенератор, и мокрая трава переливалась в свете ламп. Капрал Гундерсон и ещё один морпех стояли на открытом месте, сгорбившись под дождём. Гундерсон, командир отделения из роты «С», сказал, что обнаружил тела и доставил их в госпиталь.
Вытаскивая блокнот из полиэтиленовой обёртки, я нырнул под брезент, которые был прикреплён к палатке, образуя навес. Из палатки вышел флотский доктор в обтягивающих латексных перчатках, в сопровождении санитара с планшетом для бумаг. Появились ещё санитары с убитыми на носилках, которые они затащили на столы. Тела были накрыты мокрыми, грязными пончо, из-под которых торчали ботинки. Там было три трупа, но ботинок я заметил лишь пять. Взглянув на меня, доктор спросил, кто я такой и что тут делаю. Я объяснил, что прибыл для установления личностей погибших и составления отчёта об их ранениях.
— Хорошо, примерно этим мне и надо сейчас заняться. Насколько я понимаю, мог иметь место несчастный случай.
— Мы пока не уверены, сэр, — сказал Гундерсон, заходя под брезент. — Телефонный провод, что шёл в их блиндаж, обгорел. Может, молния попала, и от разряда их гранаты взорвались. У них там было с десяток гранат. А может, какой-нибудь вьетконговец забросил туда гранату через амбразуру и подорвал их гранаты. Под таким дождём он мог подобраться без труда.
Кивнув головой, доктор стянул пончо с тела Девлина.
— Ну ладно, кто-нибудь из вас может сказать мне, кто это? — спросил он.
— По-моему, Девлин, — сказал я, и при виде трупа у меня напряглись челюстные мышцы. — Питер Девлин. Рядовой первого класса. То есть был рядовой.
— Мне надо точно знать, кто это.
— Девлин это, — сказал Гундерсон. — Это я их нашёл.
Удовлетворившись этим, доктор приступил к осмотру. По-моему, то, что он делал, называется аутопсией. Он помял тело Девлина, перевернул его на живот, потом снова на спину, вставил пальцы в отверстия, проделанные осколками. Обернувшись к санитару, он описал характер ранений, произнося медицинские названия поражённых частей тела. Санитар ставил галочки на бланке, прижатом к планшету. Я пытался записывать, но мне было трудно понимать некоторые анатомические словечки, а ещё труднее было смотреть на то, как доктор исследует отверстия руками, обтянутыми перчатками. Не выдержав, я спросил: «Док, и как у вас сил на это хватает?»