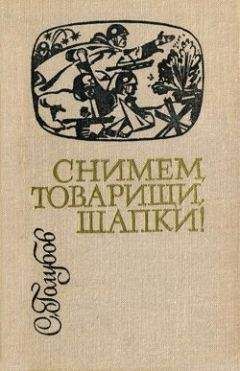Аркадий Первенцев - Над Кубанью. Книга вторая
Любка взяла его руку, погладила, приложила к щеке.
— Не кручинься, Павлуша. Брось. Всё дела да заботы. Соскучилась по тебе. Грешные сны в голову лезли. Избаловал ты меня последние дни любовью.
Павло провел ладонью по Любкиной спине и задержал руку на ее бедре, покачивающемся в такт шагу. Вспомнил ее чистое и теплое тело.
— В городе негде, Люба. Подвечереет — до Кубани поедем.
— Мне все едино, — благодарно сказала она, прижимаясь к мужу.
— Егора с собой захватим.
— А Доньку? — с женским любопытством оживилась Любка.
— Можно и ее. Сестру-сиделку.
Павло коротко посмеялся.
— Я и запамятовала. Каверин с Покровки конями приезжал, злой. Я, говорит, ее, подлюку, на три дня отпустил, а она завеялась. И тебе досталось и Егору. Пьяный напился, на батю с кулаками полез, насилу успокоили… А у меня такие думки: кто любит, тот ближе. У Егора ласка есть до баб, а Каверин какой-ся жесткий.
— Щупала, что ли? — Павло насупился.
— Для чего мне его щупать, — засмеялась Любка, приласкиваясь, — коли б щупала, до тебя не приехала.
Вечером по узкой уличке, развороченной ухабами, спускался к реке фаэтон, на котором Мостовой выехал в атаку.
Извозчику по просьбе Егора выделили трофейных лошадей, попородистей и помоложе прежних. Поэтому старик охотно согласился на эту не совсем обычную ночную поездку.'Улица кончилась. Прикубанские дворы угадывались в темноте кипенными клубами цветущей вишни.
Остановились возле похлюпывающей воды, подступившей в уровень с кромкой берега. Мостовой и Донька остались в экипаже, а Павло перекинул на плечо шинель и, полуобняв Любку, пошел вдоль берега. Река плескалась, хрипели кружины. Особая могучая материнская сила чувствовалась в ней, вспоившей десятки воинственных и трудолюбивых казачьих и черкесских поколений.
— От Жилейской идет, — сказал Павло, тяжело ступая по вязкому песку и зачерпывая горстью воду, — чего-сь мутная. Не сбрехал ли Степан, не рухнули наши обрывы?
Любка села на разостланной мужем шинели и, не ожидая, пока он устроится, притянула к себе.
— Соскучилась, Павлуша.
Павло ощутил ее горячие влажные губы и такое близкое хмельное тело. Он приник к ней, и Любка покорно и вместе с тем озорно опрокинулась навзничь, целуя его и шепча, точно кто-то мог бы их услышать:
— Сердце запеклось. Тошным свет становился. Тошным, постылым.
Сквозь порывистый шепот к его сознанию подобралась стыдная мысль, что во всей этой сутолоке он как-то ни разу не вспомнил про Любку…
Над рваной линией полузатопленного левобережного леса вылез молодой месяц. Повиснув тяжелой серьгой, он, казалось, готов был вот-вот соскользнуть и утонуть во влаге, повсюду разлитой щедрой Кубанью. Глухо ухнул филин, по-человечьи захохотала сова; толкаясь о берег, как слепой щенок в колени, проплыл лохматый карагач.
— От Жилейской несет, — сказал Павло, расстегивая ворот. — Ишь как уморился.
Он принялся быстро раздеваться. Любка чуть приподнялась.
— Ты чего, Павлуша?
— Окунусь.
— Простынешь.
— Привычный.
Павло стал спиной к жене, немного отставив локти. От него ложилась куцая расплывчатая тень на песке, виднелись вмятины — их следы.
— Красивый ты, — сказала Любка и закрыла глаза. — Ну, ныряй!
Павло вытянул руки, приподнялся и бросился вниз головой. Холодная вода сразу же сковала тело, сделав его собранным и сильным. Течение подхватило, и Павло понесся в бурлящем потоке. Со всасывающим хрипом пенились водовороты, впереди кружились листочки и щепки, и он никак не мог догнать их.
— Павло! Павлуша!
Любка бежала, прижимая к груди его одежду. Батурин саженками прибивался к берегу. Вдруг что-то скользкое и холодное коснулось бока. Павел брезгливо дернулся. Но снова натолкнулся. Белое пятно, похожее на огромную тыкву, поплыло на уровне глаз.
— Человек!
Брезгливое чувство прошло. Батурин толчками погнал находку.
— Утопленник, — постукивая зубами, сказал он подбежавшим женщинам, — покличьте деда, шматок бечевки попросите. Там у него, кажись, на оси подвязана.
Любка принесла веревку. Павло подхватил, подхлестнул петлей подмышки и привязал к одинокой ветле.
— Теперь можно поглядеть, не знакомый ли? Вроде нет. Склизкий какой-ся.
Павло сполоснул руки, поднялся, нисколько не стесняясь подошедшей к берегу Доньки. Любка подавала чистое белье, одежду, и приятная теплота разлилась по его телу.
— Бои шли, — сказала задумчиво Донька, охватив колени руками, — ко дну сразу опустился, поболтался возле коряги зацепленный, потом желчь лопнула и наверх вытолкнула.
— Может, и так, — согласился Павло, — только в бой без штанов не ходют. Придется коменданту сообщить, может, кто опознает. Пойти к Егору, что ли, перекурить?
Павло и Любка шли пешком. Они возвращались в город. Старик извозчик усердно расхваливал веревку, которую он отдал, чтобы подвязать покойника. Старик всячески превозносил качества веревки, а при упоминании слова «утопленник» крестился. Павло глядел на далекое взгорье. Там, где была последняя главная квартира генерал-лейтенанта Корнилова, красно подмигивая, горел костер. От дворов, занявших косогоры Прикуба-нья, лаяли собаки и пахло дымом, так же как и в родной Жилейской. Любка вполголоса запела:
Ой, полети, утка,
Против воды прутко…
— Не эту, — остановил ее Павло и тихо запел слышанную им тогда, на улицах осажденного города, Марсельезу.
Любка притихла, обиженно вслушиваясь в новые слова.
— Какие-сь слова чужие, быстрые, — она отвернулась, — под их любить нельзя, по-моему… Доня, ты чего слезла?
— Важко коням, а баба с возу — кобыле легче.
Павло остановил женщин, догнал экипаж, Любка и Донька пошли вместе.
— В Покровку сбираешься?
Донька вскинула голову.
— Нет.
— Почему?
— Скушно там.
— А муж?
— Что ж я до него, подвязанная? Люди дерутся, а он бессонницами мучается, какие-сь программки сочиняет трусливые. Я геройских мужиков люблю.
— Как же теперь, Доня? — трогая ее за руку, спросила Любка. — Жизнь новую начинать?
— С ними пойду, с красными казаками да солдатами.
— Гулять с ними придется. Так нашу сестру держать не будут.
— Будут, — уверенно произнесла Донька, — они тоже видют, что чище теперь бабы стали. Вот я, к примеру. Вроде семинедельным постом отговелась, через этого Корнилова. Жизнь поняла по-другому. Подорожала она у меня, как возле смерти потолкалась.
Помолчали. Каждая была со своими думами.
— Егора любишь? — неожиданно спросила Любка.
— Люблю.
— Пойдешь за него?
— Это как он захочет. А ежели и не захочет, нужен будет ему человек возле… Вот я и тут как тут… Человек… слово-то новое для нас, для баб.
Донька засмеялась, подхватила подругу и побежала, озорно прикрикивая.
— Чего ты? — сказал Егор, подбадриваясь.
— Ну-ка отсунься, Павло, — приказала Донька, повисая на подножке. — Дай поцелую тебя, Егор. — Она быстро притянула его, впилась губами. Со смехом откинулась.
— Все баба играет… Т-ф-фу ты, окаянная…
Конец второй книги
Об авторе
Аркадий Алексеевич Первенцев родился 13 (26) января 1905 года в селе Нагут, ныне Минераловодский район Ставропольского края в учительской семье кубанского казачьего происхождения. Отец — Первенцев Алексей Иванович — православный священник, мать — Афанасьева Любовь Андреевна — учительница. Троюродный брат Владимира Маяковского. Рос на Кубани, в станице Новопокровской. Был культработником в станице Новорождественской, корреспондентом в газетах «Пролетарский путь» и «Ленинский путь» в Тихорецке. Проходил действительную службу в кавалерии, прошёл путь от красноармейца до командира сабельного взвода. После демобилизации переехал в Москву, учился на вечернем отделении МВТУ имени Баумана (1929–1933), одновременно работал и писал рассказы.
Известность писателю принёс его первый роман «Кочубей» о герое Гражданской войны, который вышел в 1937 году (одноимённый фильм, 1958). Книга была издана огромными тиражами, её высоко оценили А. Серафимович, А. Макаренко.
В годы репрессий Аркадий Первенцев писал в своих дневниках сочувствие к происходящему, в частности он был шокирован арестом Ольги Берггольц. В предвоенные годы, в дневниках отображаются волнения автора, предчувствия скорой войны. В послевоенные годы автор участвовал в кампании против космополитизма, и Еврейского антифашистского комитета. За это в годы оттепели подвергся опале — писатели и шестидесятники упрекали автора в Сталинизме, в верности «культу личности» и подвергли травле.
В 1977 году вышло собрание сочинений Аркадия Первенцева в шести томах, куда вошли и такие романы, как «Матросы», «Оливковая ветвь», «Секретный фронт» и другие. Не менее ценным вкладом и важнейшим литературным наследием являются дневники писателя, документальные свидетельства о жизни нашей страны в ХХ веке, которые писатель вёл с момента выхода в свет в 1937 году первого романа.