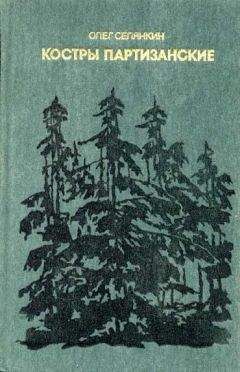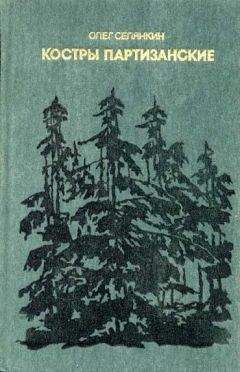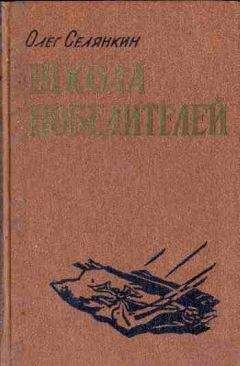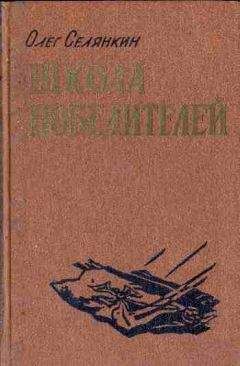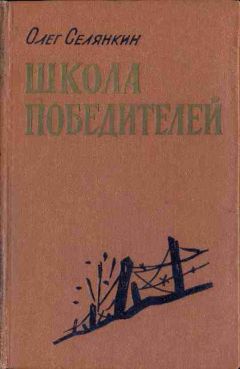Олег Селянкин - Только вперед! До самого полного!
Однако командование решило иначе, и ровно в час ночи бронекатера отошли от берега; головным — сто второй.
Ползли малым ходом, ползли в клубящемся тумане, в душе костеря начальство, убежденно заявляя, что уж лучше солнечным днем нестись на фашистов полным ходом, чем ползти вот так, не зная точно куда.
По расчетам Максима, до гитлеровских батарей оставалось меньше километра, когда сто второй днищем вдруг заскрипел по песку.
— Есть первая, — проворчал Ветошкин, не выпуская из рук теперь бесполезного штурвала.
Наметкой еще производили обмер глубин вокруг катера, а на песчаную отмель выскочил и сто первый бронекатер, шедший следом.
Обмер показал, что сели плотно. А течение Невы все наваливало и наваливало катер на пески…
Испробовали, казалось, все: и моторами на разных оборотах пытались сорвать катер с мели, и плечами его подпирали, попрыгав в быструю и холодную воду. Кряхтели от натуги, боясь матюкнуться громко, чтобы фашисты не услышали.
Силами личного состава двух катеров сняли с мели сто первый. Считали, что он буксиром сдернет их катер. Напрасно тешились надеждой: лопался, как ниточка, буксирный трос, едва сто первый делал рывок.
А время торопило, подстегивало. Тогда, посовещавшись, пришли к выводу, что сто первый должен идти дальше.
Погасил туман приглушенный рев моторов сто первого, и теперь они по-настоящему почувствовали, что остались одинешеньки. Лишенные хода и меньше чем в километре от фашистских пушек. Поднимется утренний ветерок, разорвет туман, и тогда…
Казалось бы — положение безвыходное. Казалось бы — Максиму, как командиру, только и остается выбрать одно из двух: терпеливо ждать то, что будет, что вроде бы суждено, или увести личный состав на берег; в этом случае хоть у людей появится шанс на спасение.
Но Максим собрал матросов около рубки и сказал спокойно, как о деле обыденном:
— Все лишнее за борт!
Ничего лишнего не должно было быть на катере. И не было. Вот и полетело за борт многое из того, что еще недавно Мехоношин Афанасий Никандрович так любовно тащил на катер, исходя из того, что в хозяйстве оно может пригодиться; вот и были брошены в невскую воду даже трап, даже спасательные круги.
И снова всей командой в реку, снова напряжение всего тела, напряжение до пляски светлых змеек в глазах, снова рев моторов, работающих на пределе своих сил.
Бронекатер не шелохнулся.
— Одуванчик! Промерь глубину до берега! — распорядился Максим.
Пока Одуванчик блуждал в тумане, остальные молча курили.
— Есть брод. В самом глубоком месте — мне по грудь.
Так доложил Одуванчик, стоя в реке и устало уцепившись руками за леерную стойку.
— Выход, ребята, вижу один: все-все, что только можно, немедленно перенести на берег… Другие предложения есть?
Максим выждал немного. Ни предложений, ни вопросов не последовало. И он первым спрыгнул с катера в воду, подставил плечи под коробки с пулеметными лентами.
Все снаряды и все коробки с пулеметными лентами, все дымовые шашки, весь инструмент Разуваева перенесли на берег, даже якорную цепь вытравили до предела, чтобы облегчить катер.
— Теперь попробуем еще разок.
Подперли катер плечами, взревели моторы…
Когда бронекатер дрогнул, Максим побоялся поверить этому. Но вот он заскользил, заскользил с проклятой мели!
Естественным желанием было — побыстрее уйти на спасительную глубину. Максим переборол себя, остановил бронекатер на кромке мели и… пошел к берегу, чтобы принести на катер то, что недавно и с таким трудом было снято с него.
И опять работали все. Молча, с остервенением работали.
Все равно почти час провозились.
От усталости так дрожали руки и ноги, что, взобравшись на бронекатер, в изнеможении опустились на холодящую палубу. Даже не закурили. Только молчали, упиваясь покоем.
А легкий ветерок уже проснулся, побежал по реке, и туман чуть оторвался от воды. Сзади уже слышался рокот моторов десантных катеров. Впереди, куда ушли товарищи, гремели артиллерийские залпы, рокотали длиннющие пулеметные очереди, звучала автоматная и винтовочная стрельба.
И, пересилив себя, Максим решительно скомандовал:
— По местам стоять, с якоря сниматься!
После короткой паузы — новая команда, теперь Разуваеву:
— Вперед! До самого полного!
Сто второй не хотел уклоняться от боя.
17
Матросы, зубоскаля, утверждали, будто бог, впервые увидев тельняшку, выдуманную человеком, немедленно так влюбился в нее, что в тот же час свою жизнь на земле переделал по образу и подобию ее: бесконечное чередование светлых и темных полос и полосочек. Вроде бы все это пустая болтовня, однако, если взглянуть на события с этой философской позиции…
Благополучно вышли из жарких боев и своим ходом доплелись до судостроительного завода — светлая полосочка; а вот не стало мичмана Мехоношина — черная полоса.
Случалось, и по нескольку светлых и темных полос на один день приходилось. Вот сегодня, всего лишь час назад, за умелые и смелые действия в минувших боях командование весь личный состав сто второго наградило орденами и медалями; его, Максима, — орденом Красного Знамени. И сразу же, когда они еще не успели налюбоваться наградами, до конца еще не осознали, что эти ордена и медали действительно вручены им, — приказ: в ближайшие дни доукомплектоваться согласно штатному расписанию. Сухая, казенная формулировка, продиктованная самой жизнью, а для Максима, для каждого, кто служил на сто втором, — безжалостный удар в сердце: значит, исключай из списков Якова Новикова, Насибова и других, кого отправили в госпитали.
Умом понимали, что должно поступить только так (не может бронекатер воевать в полную силу, если отсутствует почти треть личного состава), а в сердце все равно тупая боль.
Правда, Медведев сказал после оглашения приказа:
— Принимай, Максим Николаевич, пополнение, принимай. А потом, когда время припрет, авось придумаем что-нибудь.
Придумать, конечно, можно будет. Только это слабое утешение: а вдруг новый человек, приходу которого сейчас противится душа, окажется хорошим товарищем, прирастет к сердцу? Значит, теперь уже сам себе и добровольно боль причиняй?
Еще переживали, еще негодовали, а к катеру уже шел Дудко. Шел подчеркнуто прямо и какой-то потемневший лицом. И эта подчеркнуто четкая походка, и это окаменевшее лицо сказали Максиму, что Дудко пьян. Не выпил, а напился до такого состояния, когда человек уже почти ничего не соображает.
Дмитрий, как точно знал Максим, был трезвенником. Нет, он никогда не отказывался от рюмки вина или стопочки водки, но больше этой нормы ничего не принимал, говорил, что его профессии противопоказаны затуманенные мозги и дрожащие пальцы.
И недоброе предчувствие закралось в душу.
Дудко, чуть шатнувшись, сам прошел по трапу на катер, не глянув ни на Максима, ни на матросов; сам спустился и в каюту командира бронекатера. А вот здесь, когда ему показалось, что его никто не видит, упал на койку, уткнулся лицом в подушку и заплакал. Беззвучно. Только плечи вздрагивали мелко-мелко.
Максим присел на свою койку рядом с ним и растерянно посмотрел на Одуванчика и других матросов, толпившихся у порога каюты.
Минут десять беззвучно плакал Дмитрий, и все это время никто не проронил ни слова, даже не шелохнулся. Потом он сел, не вытерев слез, с удивлением посмотрел на матросов, на Максима, сидевшего рядом. И сказал одними губами:
— Максимушка… Нету больше Спиридона, нету…
С самого первого дня войны смерть постоянно кралась рядом, исподтишка нанося удары. Невольно вспомнилось, что уже не стало Тимофея Серегина, мичмана Мехоношина, Виктора Смирнова и вообще многих однокашников Максима, многих матросов, которые несли службу вместе с ним. Очень многих товарищей не стало за минувший год войны. И все равно каждый раз невыносимо больно, и все равно слова соболезнования или утешения застревают в горле.
Сразу и, почти дословно вспомнилось и письмо Риты, полученное утром. Она писала, что живет и работает нормально, иногда, когда приходится особенно трудно, вспоминает его, Максима, и то, что им выпало пережить вместе; если ему, Максиму, потребуется ее, Риты, помощь, он может полностью рассчитывать на нее. А в самом конце письма была такая строчка: «Вчера фашисты убили Иллариона».
Как убили, при каких обстоятельствах — об этом ни слова. Хотя, пожалуй, это и лишнее: главное сказано — убили почти мальчика, которому с его чистейшей душой еще жить и жить надо было…
Одуванчик бесшумно поставил на маленький столик, прилепленный к борту катера, две кружки горячущего и крепчайшего чая, вопросительно взглянул на Максима и исчез так же молча и внезапно, как и появился.