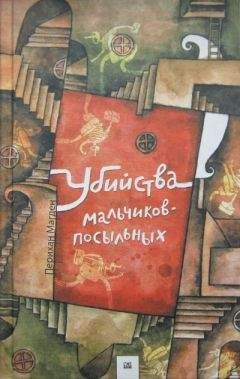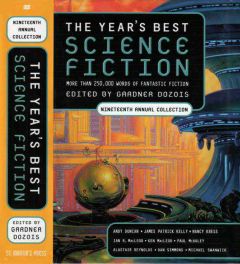Андрей Платонов - Живая память
Первым ушел Павел Захаров с женой, потом Андрей пожал отцу руку, обнял его и поцеловал. Иван Захаров стоял у калитки, а когда все скрылись, взял заготовленные доски, гвозди, молоток и забил крест-накрест окна и двери. Потом перекрестил порог и снял шапку. Кинув за плечо старый выцветший вещевой мешок, он пошел вдоль улицы, кланяясь окликавшим его женам и матерям шахтеров...
***
Не часто Павел Захаров и жена его Евгения Захарова получают письма от отца и брата. Видимо, далеко разбросала их война, за много сотен километров друг от друга находятся их полевые почты. Но как бы ни были редки эти весточки, каждая приносит радость измученной душе Павла. Андрей воюет хорошо. Он пишет: «Род Захаровых и на нашем фронте в чести, в почете. Миномет мой бьет без промаха...»
Малоразборчивым почерком отец сообщает о том, что дороги, которые он строит сообща с другими дорожными мастерами, вызывают одобрение шоферов и начальства. Отец все надеется увидеть на дороге в часы наступления своих сыновей Павла и Андрея, — пусть сами одобрят работу старика Захарова.
Не так часто Павел видится с женой. Она стала снайпером. Двенадцать немцев уже на ее счету. «Это мало, это еще очень мало», — говорит она.
Павел стал разведчиком. Много раз побывал он в тылу у немцев. Сам убил до трех десятков врагов. А сколько уничтожено после его разведок артиллерией? Разве точно сосчитаешь?
Все это родовой счет мести семьи Захаровых. За своих детей. За свою мать. За свою землю.
Нет, не уничтожить фашистам русской семьи Захаровых. Издалека ведет она свое начало. Всем семейством, всем родом встали они на защиту родины. И каждая воинская победа Павла, Андрея, Евгении Захаровых, каждый трудовой подвиг их отца Ивана Захарова — это честь их русского рода.
Июнь 1943 г.
Ата Каушутов. СЕМЬЯ ОХОТНИКА КАНДЫМА
Вечером после работы Акчагуль сидела во дворе на пороге дома и задумчиво посматривала вдаль, за ворота.
Осеннее ноябрьское солнце уже спускалось к горизонту и ярко освещало ее красное платье, суровое бронзовое лицо и черные волосы с легкой проседью.
В ворота торопливо вошел Гуджук, бородатый увалень с простодушным, глуповатым лицом, родной брат покойного мужа Акчагуль. Одной рукой он нервно теребил бороденку, а в другой держал исписанные листки бумаги. Увидев Акчагуль, он вдруг остановился, вскинул брози и растерянно заморгал своими бараньими глазами. Бумажки в руке его задрожали.
Акчагуль взглянула на него и насторожилась.
— Ты что, Гуджук? — спросила она голосом, полным тревоги.
— Да ничего... Так я... — пробормотал Гуджук, сел рядом с ней, поднял щепку и стал ковырять землю. Он был чем-то очень взволнован и даже подавлен.
— Что случилось, Гуджук? Что это у тебя за бумажки?— с нарастающей тревогой допытывалась Акчагуль.
Гуджук посмотрел на нее все так же растерянно и нерешительно кашлянул.
— Это, видишь ли... Уж если такая судьба, ничего не поделаешь, надо терпеть... Мурад...
— Мурад?..
Акчагуль порывисто схватила Гуджука за руку и отшатнулась. Глаза ее стали огромными и загорелись сухим блеском.
— Да, он убит, Акчагуль, — дрогнувшим голосом сказал Гуджук и приложил левую руку ко лбу в знак горькой печали.
Акчагуль вскрикнула, закрыла глаза и побледнела, у нее перехватило дыхание. Гуджук испугался, жалко заморгал глазами. Ему показалось, что она умерла. Но Акчагуль порывисто встала, вскинула руки, закрыла лицо, и по всему аулу пронесся ее пронзительный, стонущий вопль.
— Ой!.. Ой, горе мне!.. Ой, Мурад!.. Что теперь делать?
Люди в соседних дворах, услышав этот горестный вопль, вздрогнули, насторожились, а потом со всех ног бросились на крики Акчагуль. На бегу они взволнованно спрашивали:
— Что такое?.. Что случилось?.. Почему она так кричит?
А несчастная Акчагуль, припав головой к косяку двери, рыдала, сотрясаясь всем телом, и со стоном причитала:
— Ой, Мурад!.. Мой единственный!.. Угас свет моих глаз! Угас узор моего ковра!.. Ой, дитя мое!..
Гуджук утирал кулаком слезы и показывал подбегавшим к нему два исписанных листка бумаги.
Скоро весь двор заполнился народом. Женщины, припав друг к другу, громко рыдали. Мужчины тоже горестно причитали, плакали. Вся эта пестрая толпа была в великом смятенье. Причитанья и вопли слились в сплошной гул.
И вот в это время во двор въехал на осле рослый, широкоплечий старик с белой бородой. Как бы не замечая ни смятенья, ни воплей, спокойно и молча, покачиваясь на осле, он проехал сквозь толпу в конец двора.
Осел подошел к колу, вбитому в землю возле забора, к которому его обычно привязывали, и остановился.
Старик слез с осла и снял с него пятипудовый мешок с пшеницей. Кто-то из толпы бросился помогать ему. Но он не нуждался еще ни в чьей помощи. Он легко вскинул мешок на спину, так же спокойно и молча прошел сквозь толпу, почтительно расступившуюся перед ним, к дому и сбросил мешок за дверь. Потом он встал на пороге во весь свой могучий рост, посмотрел вокруг и строго спросил:
— Что за крик? Чего вы вопите?
Женщины притихли, притихли и мужчины, которые, по обычаю, громко причитали: «Ой, брат мой!» Старик неторопливо вынул из-за кушака кисет, взял чилим, стоявший у стены возле двери, набил его табаком. Черноглазый семилетний мальчуган проворно схватил железные щипцы, притащил из дома уголек и положил в чилим на табак.
Старик, булькая чилимом, затянулся раза два, окутался дымом, посмотрел на заплаканных мужчин и женщин, на обессилевшую от горя, все еще громко рыдавшую Акчагуль, сдвинул брови и еще раз затянулся густым дымом. Потом спросил спокойно:
— Ну, что случилось?
— Отец, вот письмо... про Мурада пишут, — сказал Гуджук, утирая рукавом глаза, и протянул старику бумажки.
Старик посмотрел на бумажки, не беря их в руки, и спросил:
— Ну и что же пишут про Мурада?
— Убили его... Пишут его товарищи. Вот они и адрес свой написали... Только одни пишут, что он убит, а другие, что он без вести пропал. Не знаю, что и думать?..
Брови старика чуть дрогнули. Он затянулся, пыхнул дымом и сказал:
— Ну, спасибо им, что написали! Стало быть, любили Мурада... А чего же кричать? Чего вы ревете-то, как стадо быков?
И он обвел толпу суровым взглядом.
Все молчали. Гуджук раскрыл было рот, хотел что-то сказать, но, заметив, как сурово старик шевельнул седыми бровями, закрыл рот ладонью и только кашлянул.
— Чего вы ревете? К чему это все, я вас спрашиваю? — продолжал старик. — Разве плакали ваши деды и прадеды, когда иранские шахи пытались захватить нашу землю? Они садились на коней и рубили врагов. С одними саблями они бросались против каджарских ружей и медных пушек. А вы плачете... И какая же война бывает без жертв? Разве мы на свадьбу посылали наших внуков и детей? Не кричать, не рыдать надо, а гордиться, что Мурад наш был настоящим джигитом. Не будь он таким, о нем не писали бы товарищи. А ну, Гуджук, дай-ка мне эти письма!
И он взял помятые листки, бережно сложил их и сунул за пазуху.
Старик этот был известный во всей округе охотник Кандым, который прожил уже восемьдесят лет и не потерял еще ни силы ума своего, ни силы рук, ни меткости глаза. А скорбная пестрая толпа, стоявшая перед ним во дворе, состояла из его детей, внуков и правнуков, из их жен и матерей.
Старый Кандым был главой этой огромной дружной семьи. У него было восемь сыновей. Но самый старший из них умер, когда жена его Акчагуль, кроме двух дочерей, родила ему еще сына Мурада и когда он только что обзавелся своей кибиткой.
Акчагуль с помощью Кандыма и всей семьи вырастила и воспитала детей. Ее все уважали, и все любили ее сына Мурада. В огромной семье Кандыма Мурад как бы заменял своего покойного отца, на которого он был очень похож.
Сахат, второй сын Кандыма, лет пятидесяти, нерешительно потоптался на месте и сказал:
— Это верно, отец. Ты хорошо говоришь... Но если Мурад умер, мы хотим спросить тебя: не справить ли поминки?
— Эх, вы!.. — горько усмехнулся старик. — Не мужчины вы — заячьи души! Не о том ты думаешь и говоришь, Сахат. Уж если мы сами не способны воевать, не можем заменить Мурада, то надо думать о том, как бы помочь тем, кто бьет врага за нас. Да, и скорее помочь! А не тратить попусту время на молитвы. Вот и ты, Гуджук, торчишь тут и не думаешь о том, что ты мог бы быть хорошим солдатом. Ты еще молод, тебе всего-то сорок первый год. Еще недавно ты так скоблил бритвой свой подбородок, что он был красный, как морковь, ты хотел казаться моложе своих младших братьев. А как началась война, ты забросил бритву, моешь бороду кислым молоком, чтоб она скорее выросла до колен. Напрасно стараешься. Все женщины знают, что ты еще мальчишка... Эх ты, я на твоем месте не бегал бы по дворам, не пугал бы людей, а был бы там, на фронте.